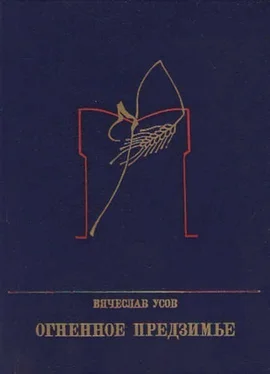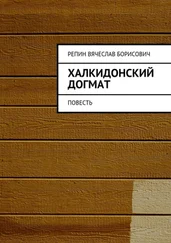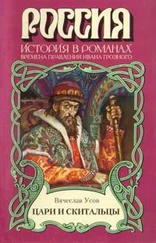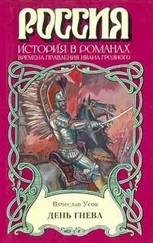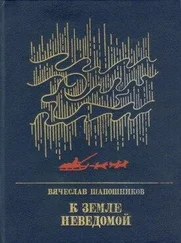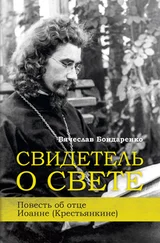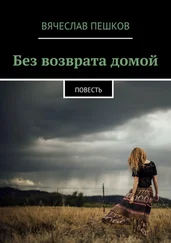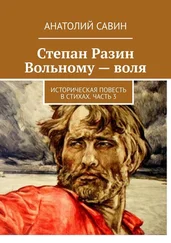Аленины черные глаза в упор смотрели на него, зрачки дышали. Она за считанные минуты обернулась новым человеком, почти уже не женщиной.
— Атаман! Мы, крестьяне, иным возьмем. Войско твое князь Долгоруков разгонит по лесам. Тогда и начнется наша крестьянская война. Вся земля против дворян ощетинится, яко еж. Из-за всякого древа — пуля али топор. С эдаким войском им не управиться, их мало, атаман. А когда все в сборе, они управятся, драться полком они умеют.
— Мы что же, так и будем, как волки по лесам…
— Волков сколь ни истребляют, а они живут. Так и мы.
— И ты?
— Я уж начала свою войну. От меня ни жизни, ни покоя помещикам не будет. Ежели все станут драться, как мои робяты, боярской власти в наших уездах не бывать. А через год-другой и Москва развалится, она ведь нашим хлебом да майданами жива. Не станет майданов, казне торговать нечем, а хлеба не станет…
— Вы первые от голоду помрете.
— Год-другой перетерпим, атаман. Мы не балованы. А вот дворяне не обыкли голодать, да и посадские.
— Посадских тоже, стало, решила приморить?
— В городах все зло. Доброго там нет. Посадским до нас тоже дела нет, им бы нашим хлебом да мясом торговать, задешево скупая с возов.
Прорвалось давнее соперничество крестьян и горожан, оберегавших свои торговые права. Не ко времени, затосковал Максим. Сперва бы власть переменить, потом считаться. Алена торопилась.
— В Нижнем, я верно знаю, посадские готовы отворить ворота, — терпеливо заговорил Максим. — От Алатыря до Козьмодемьянска все города наши. Нам ныне все силы собрать в един кулак, ударить по государевым войскам.
— По боярским, — строго поправила Алена. — Государь ни при чем, его омманывают. Он нас, крестьян, жалел бы, если бы знал.
Максим не стал с ней спорить. Он мало размышлял о государе. Он столько крестьян привел уже к присяге самозваному царевичу Нечаю, что святость царской власти незаметно полиняла.
— Мне помогать не хочешь?
— Тебя побьют, — просто и убежденно отвечала Алена.
Максим в последний раз заглянул в ее дышащие глаза и пожалел старицу Алену, обреченную на недолгий путь одинокой мстительницы. Она немного зла наделает дворянам, но это зло запомнится надолго. Бог ей судья.
И дня не проходило, чтобы Максим не слышал о подвигах Алениной ватаги. Она жестоко выжигала помещичьи усадьбы, искореняя само дворянское семя с неженской, да и немужской безжалостностью, разбила и истребила два отряда из полка Леонтьева, потом следы ее пропали где-то к западу от Арзамаса. На некоторое время она притихла, будто высматривала добычу пожирнее. Максиму передали, что сами воеводы Леонтьев и Щербатов начинали утро с вопрошания — что слышно про старицу Алену? Про атамана Максима Осипова они небось не вопрошали…
В чем-то она была права. А если Максима разобьют под Арзамасом, тогда права во всем.
В подобных мрачных размышлениях и догадках Максим пережидал непогоду в селе Мурашкине. «Ждем ведро, — твердили старосты и сотские. — Како в лесу хождение в дождь, куст шевельни, онучи мокрыя!»
В Мурашкине Максима настигло письмо Степана Тимофеевича.
Оно давно блуждало между Симбирском и приволжскими селами, посланца заносило в разные интересные дела, потом пришлось скрываться от Леонтьева… В письме коротко говорилось о сражении с Барятинским. Из посланца Максим вытянул подробности. Получалось, что войско Разина окружено и прижато к Волге, боевой дух утерян, и сам посланец не знал, чем кончилось это несчастное дело. Разин настойчиво звал Осипова в Симбирск.
Угадывая беду, Максим утешал себя одним: если сумеет он разбить Леонтьева, то двинет в Нижний Новгород во главе тысяч посадских и крестьян. Он в раздражении уже внушал себе, что их крестьянское дело — чужое Разину: «Он еще как бы вовсе не бросил нас…» У него были основания надеяться на Нижний Новгород.
В соседней горнице, попивая брусничный сбитень на меду, другой день сидели нижегородские посадские. Они привезли уже второе приглашение Максиму явиться под стены города. Ему и брать их не придется, черные сотни Нижнего уверяли, что «город вам, конечно, сдастца!». В этом же были убеждены крестьяне ближнего к городу Закудемского стана. Сам воевода Голохвастов не надеялся защитить Нижний, крестьяне перехватили его испуганное письмо Долгорукову. Дороги между Нижним и Арзамасом были прочно заняты крестьянскими отрядами, вплоть до Лисенского перевоза на Оке. В главном каменном городе на Волге можно было зимовать и отбиваться от царских войск хоть десять лет, подобно инокам Соловецкого монастыря. Возможно, взятие Нижнего Новгорода решило бы исход войны, заставив бояр пойти с Максимом на переговоры.
Читать дальше