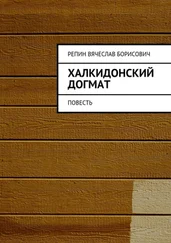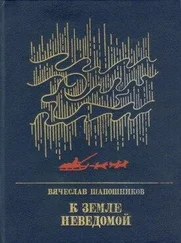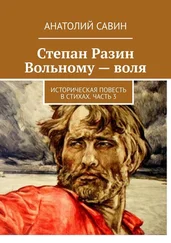Так же не годилась для жизни казаков персидская земля.
— Стало, Максим, рвешься в Россию с саблей?
Максим уже не раз внушал Степану Тимофеевичу мысль о том, что в казаки русские люди убегают не только за вольной жизнью, но чтобы стать вровень с воинскими людьми — дворянами. Когда-нибудь все беглые вернутся и освободят оставшихся. Оставшиеся ждут…
— Долго же ждут, — посмеивался Разин.
Слова Максима, отвечая его собственной тоске и озлоблению, тревожили его.
— Сто лет. Да не одни крестьяне, батько. Черные люди — все, кому плохо от бояр.
— Не только черным плохо.
— Гулящим легше. Черные…
Черные люди — те, кто платит подати в казну, имеют дом и семью, приписан к месту и не может просто уйти за волей. Они — основа государства. В Осипове сидела гордость потомственного земледельца, он мало сочувствовал ярыжкам.
Весенний ветер ходил кругами, мелкие волны сшибались в толчее, на косы-корги летела сырая пыль.
— Сколько погибло нас, — сказал Максим. — И сколько еще погибнет, батько!
— Останется войско, Максим. Хоть тысяча, но это уже будет войско, не ватага.
Может быть, убеждая молодого есаула. Разин и сам впервые понял, как изменились люди, увлеченные им в далекий и опасный, почти безнадежный поход. Не боевые казаки ушли за ним, те остались при своих куренях; ушли голутвенные — беглые, бездомные, работные люди, среди которых совсем немного было бывших солдат. И вот — персидский поход словно вычистил, прочесал их ряды, многие пропали, порубленные и пострелянные, но кто остался — тех уже не просто будет порубить. Вряд ли во всей России найдется стрелецкий или дворянский полк, где так сошлись бы боевые люди, одолевшие страх смерти, как и пристало воинскому человеку. Не полковники учили их драться, а сама война…
— Войско — сила, — сказал Максим. — А думал ты, на что она тебе? От неприложимой силы кровь только в голову кидается.
— Али ты думаешь, что не найдется в России дела для меня?
— Какого?
Разин молчал. Да и не так определенно просвечивало будущее, чтобы ответить на прямой вопрос Максима. Сила… Разин давно усвоил, что в мире много сил и каждая норовит жить и брать свое. В России сила была важней закона, да и сам закон навязан народу силой. И вот у него войско…
— А что бы ты сделал с войском, Максим?
— Вернулся бы на родину. И посчитался.
— С кем?
— Будто не знаешь, батько.
Далеко была Россия. Но разве запретишь душе стремиться к светлому, сердцу — обливаться черной кровью, рассудку — вопрошать? С рассудком справиться трудней всего, слишком язвящие вопросы задает он. Что дальше? В Россию попадешь — зачем?
В Яицком городке он много об этом думал. Писал на Украину и в Запороги, звал кошевого Серка и гетмана ударить на Москву. Какая у него тогда мысль была? Заставить Москву считаться с Доном, уберечь вольности его, соединиться со всем казачьим миром в вольное государство. Теперь понимал — так не выйдет: даже хлебная Украина не удержится без России против Польши… Так что же — влить свое войско в Донское, стать есаулом крестного Корнилы Яковлева?
Нет, если он доберется до дома, он свое возьмет. Что у него — свое?
Вода, шипя, уходила в крупный песок. Сколько ни накатывало на берег, вся уходила.
— Ты любишь крестьян, Максим?
— Я сам из них… То мои братья, батько. А ты?
— Посадские мне ближе. Дед мой из воронежских посадских, дядька Никифор и ныне там страдает…
— Крестьяне… жальче. И — злее, батько. Если уж возьмутся за топор — не остановишь.
— А стрельнешь — побегут.
Максим обиженно отворотился. Разин улыбнулся:
— Все хороши, не ершись… Хочу сказать — всем плохо на Руси. Но — терпят. Отчего?
— Не знаю, — честно отвечал Максим. — Ведь черного народа много, куда больше, чем дворян. А отчего терпят — я не знаю.
— Силы не чуют. Покуда человек в драку не влез, он не знает себя. И мужики твои не знают, и посадские.
— Дойдет до края… узнают. Сколько уж бунтов было в городах. А Смута? Думаешь, батько, не повторится Смута?
— В ту Смуту был Болотников, из наших казаков. Слыхал о нем?
— Нет, — рассеянно ответил Максим…
…А за горами, в Исфагани, праздновали Ашур в память Хусейна, толкователя Корана, убитого Омаром. Тысячи жителей столицы в синих халатах и белых чалмах шли по главной улице, выкрикивая: «О, Хусейн, Хусейн!» Шариб, первосвященник, в крик читал о жизни святого. Ненависть к убийце, а заодно — ко всем врагам ислама, раскалялась с каждой протяжной фразой, хотя немногие понимали по-арабски. Чтение разделялось глубокими провалами молчания, молчание разряжалось блеющим пением, ознобляющим христианские души.
Читать дальше