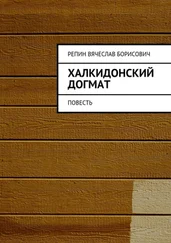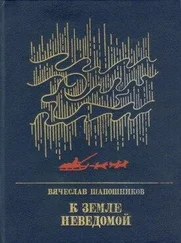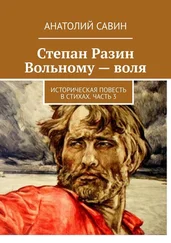Прорвало его внезапно, неожиданно и стыдно.
Корнила Яковлев, исполнив долг названого отца, с облегчением распустил узду: нехай крестник уводит своих голутвенных подалее от Дона, уменьшит их число, очистит городки от лишних и беспокойных едоков. Он закрывал глаза на то, что домовитые снабжали уходивших оружием и зельем, под будущую добычу. Яковлев погрузился в более важные посольские дела — к нему заездили из Занорогов от кошевого Серка, с Украины от гетмана Дорошенки, из Крыма. Наконец прибыл соглядатай из Астрахани, князь Каспулат Черкасский. Он был принят как почетный гость.
Каспулат был невысок, но крепок и медлительно-ловок во всех движениях сильного, без изъянов, тела. Чернобровое, черноусое, с темными губами и мглистыми очами, лицо его было красиво, но неумно и потаенно-лживо: свойства, необходимые для умеренного продвижения по службе, ежели у тебя хороший род.
Он говорил значительно и умел создавать впечатление глубокой деловой озабоченности. За обедом он вещал о тяжком положении нового астраханского воеводы Прозоровского.
Астрахань и Царицын были забиты недовольными. Служба в низовьях Волги считалась самой тяжкой, поэтому солдаты и стрельцы сюда ссылались «за непочтение к родителям», как скользко выразился Каспулат. Все, что ни делал Прозоровский, жителям становилось поперек горла. В Москве стерпели бы… Посадские в Астрахани тоже подобрались беспокойные: завели бес-пошлинную торговлишку с калмыками, дальние рыбные ловли без обложения налогом, лезли в торговлю с персиянами и — в обход запретов — с Доном. За всем приходилось следить и пресекать. Лишку давить опасно — полыхнет, как в Москве во время Медного бунта, а на стрельцов надежды мало.
Степан сказал:
— Нечева и давить. Они не шарят по чужим подклетам.
Каспулат поднял на него удивленные глаза цвета сажи. Степана понесло:
— Дай людям волю, они разберутся без воеводы. Ужель боярин Иван Семеныч более в рыбных тонях понимает, нежли посадские?
Он стал валить на Каспулата все, услышанное от голутвенных, от беглых, ссылался на московские воспоминания, на знание приказных тайн. Ему казалось, что он прижал Черкасского, тот ничего ответить уже не может, вот-вот признает: да, все у нас негодно, надо менять! Каспулат неловко отбивался под осторожное молчание казаков. Бывший за столом старшина воронежских посадских позже сказал Степану, что Каспулат отбивался как раз весьма ловко, хотя и сильно врал. Корнила Яковлев, боясь за крестника и за себя, велел позвать скоморохов — те давно слонялись возле атаманского куреня, учуяв гулянку.
Скоморохи пришли из Слободской Украины, знали всякие пляски, и польские тоже. Заиграли сопели, по атаманской горнице забилась незнакомая, летящая и резкая музыка, одновременно вольная и безнадежная. Тут князь Черкасский показал себя: плясал свободно, ловко. Жаль, на Дону девки не гуляли с мужиками, польские танцы придуманы на соблазн: вольта, мазурка и иные. Все любовались Каспулатом, кроме Разина.
Он не договорил. Ждал, когда уймутся глумцы. Но чем неутомимей и ловчее плясал Каспулат, тем менее хотелось говорить. Его ведь не проймет голутвенная правда, и даже осторожное ворчание московских приказных и дворян чуждо ему. Каспулат — из бездумных государевых холопов. Он невысоко залетит, но будет верно служить боярам. Они щедро прикормят его, и он до смерти останется одним из тупо убеждепных, что без него рухнет всякая власть.
С обеда Степан ушел без шума, порадовав крестного. Дома он, как повелось у них, стал рассказывать про Каспулата. По крупному и чуткому лицу жены улавливал, что теперь у него получается убедительно. Вдруг ударился о лавку и закричал сквозь слезы:
— Псы мерзоядные! Псы!
Жена перепугалась, таким она не видела его и не предполагала, что он способен быть таким. Словно он заболел и обезумел, и слезы, накопившиеся за годы, прорвали запруду.
— Они, они, — взахлеб повторял он, — они везде, все взяли. Пляшут и врут, хапают и врут… Бог и люди терпят. Ну — отчего?!
Чем глубже он погружался в странную темноту и сладость рыдания, тем меньше он хотел выбраться из нее, а хотелось, чтобы жена смотрела на него ужасными глазами, а он бы плакал и пугал ее. Как-то она, тихая жизнь при ней соединялись с теми, кого он ненавидел. Басовитое и жуткое рыдание его билось в стены, в плотный глиняный пол и подкопченный потолок над очагом. Вот только — горло и измученное сердце его рыдали, а кто-то злопамятный слушал как бы со стороны и вдавливал, и ввинчивал в душу Степана жгучий гвоздь. Его не вырвешь.
Читать дальше