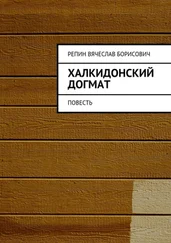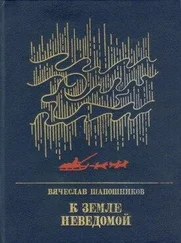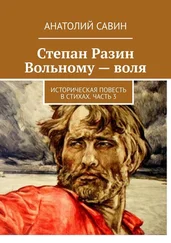Приречная низина лежала перед ним открытая и без единой тени. Остаток жизни стал ему виден до самого белого русла с черной прорубью. И белое отчаяние заволокло его.
Но, погрузившись в глубину его, дух возмутился против гибели и не поверил в ее бессмысленность. Ведь в жизни были и цель, и высший смысл, иначе люди с такой готовностью не откликались бы ему и не ломали собственные жизни. Что одна его жизнь рядом с тысячами погибших и ожидавших казни… И что все их жизни рядом с судьбой великого народа, которую они хотели изменить, возвысить!
Не он позвал — его призвали. И он, и люди, соединившиеся с ним, угадали то неустойчивое равновесие в жизни русского государства, когда надежда вернуть отнятую свободу еще упорно жила среди посадских и крестьян. Он всего лишь крикнул, и люди с поразительной готовностью поднялись даже там, где прошлось одно лишь эхо. Теперь долгое рабство, как окаменевшая зима, заляжет по всей России, страшные силы дворянской власти сожмут ее — ни продохнуть, ни отозваться. Если бы он, Разин, не попытался уничтожить эти силы, вот тогда ему не было бы прощения ни в сем свете, ни в будущем.
А прорубь — что ж: вон кашевары волокут от нее казан с водой. Он подошел к ним, глотнул водицы, погрыз льдинку. Зуб заломило. Он подумал, что даже боль не так страшна. Она проходит.
Еще он знал, что сам не сдастся, не придет с повинной. Пусть-ка его возьмут на нож, на саблю.
Тянулось время — оттепельное, весеннее. Снег уходил с полей. Все, что казалось мертвым, оживало и вопреки отчаянному положению осветляло душу. Только людей в Кагальнике становилось все меньше. Даже вернувшиеся из похода мало-помалу уходили, надеясь затеряться и спастись. Дядя Никифор тоже скрылся, непутевый: его-то каждый третий казак знает в лицо, а уж в Воронеже и подавно — встречают… Фрол затаился и будто обтаивал лицом. Когда Степан, собрав оставшиеся бумаги — перепись казны, списки прелестных писем, грамоты из Крыма и Запорогов — и вывезенный из Персии резной костяной город, поручил казаку-оружничему зарыть все в условном месте, Фрол было тоже увязался. Разин прогнал его: не стоек духом уродился братец, сломается перед боярами.
С костяным городом была у него связана одна задушевная тайна. Был он не то чтобы особенно красив, но невелик, легко охватен взглядом, ясен, чист. Верилось, что и люди, живущие в нем, имеют столь же чистые и откровенные помыслы. В том костяном городке не было места злу, происходящему от того, что одни норовят отнять созданное и припасенное другими. Такой мечталась Степану Тимофеевичу столица некоего государства, управляемого множеством кругов и единым кругом — волей всего народа. И хотя он знал, что ясность костяного городка несбыточна в этом сложном и грешном мире, его тянуло в тяжкие минуты полюбоваться, погрустить над ним. Он не хотел, чтобы городок достался дьякам и боярам…
Зарыв бумаги, он подумал, что отныне ему придется держать ответ только перед собой и богом. Он ошибался: слишком многие все еще продолжали начатое им. В апреле в Кагальник явился посланец Уса из Астрахани — бывший стрелец, а ныне есаул Алексей Ларин — Рот. Ус спрашивал, что ему делать с денежной казной. Вряд ли он только ради этого гонял на Дон есаула. Что-то, видно, сместилось, покачнулось в самой Астрахани. Василий Родионыч захотел узнать намерения Разина. Рот был, по существу, его лазутчиком в Кагальнике. Только не тайным, а доброжелательным и явным.
Рот сразу признался, что по поводу порядков, установившихся в Астрахани, испытывает великое сомнение. Не лучшие люди забирают власть и слишком жадно говорят о крови. Чьей? Для начала — детей боярских, пишущих письма в Россию и на Дон. Митрополита и князя Львова обвиняют в том, что они призывают к Астрахани государевых воевод.
Разин ведь говорил перед отъездом Грузинкину и Ветчине — не троньте дворян, оставшихся в Астрахани добровольно! Али они забыли?
— Ныне, — грустно ответил Рот, — Василий Родионыч какой-то страшной обливой — кожной болезнью — страждет, того гляди, помрет. Другой правитель — столетний старец, астраханец. А все решает круг, на коем верховодят те же — Грузинкин, Ветчина да Федька Шелудяк.
— Без круга — никуда, — рассеянно одобрил Разин. Рот несогласно отмолчался.
— Алеша, — неожиданно ласково молвил Степан Тимофеевич. — Про казну мне нечего сказать, Астрахань далеко. Коли приду туда, решим. Одно велю — не трогать, не дуванить.
Он замолчал и долго думал, какое слово утешения забросить через степи и стены обреченным людям. Если посадских и стрельцов возьмут с оружием в руках, их ждет неумолимый суд.
Читать дальше