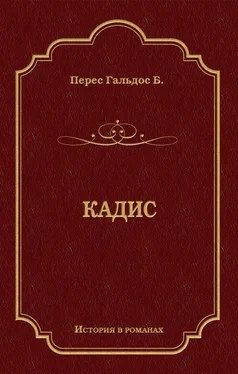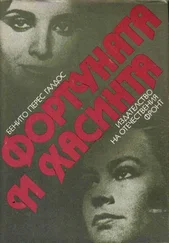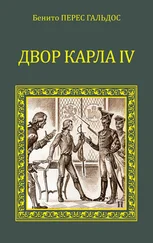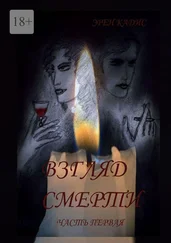Близился вечер. Монахи не спеша возвращались в обитель, как овцы, бредущие в загон; чахлые тополя Аламеды бросали скудную тень на тропинку между зданием и стеной; лучи заходящего солнца золотили фронтон. Невысокая ограда шла по прямой линии; в конце ограды перед калиткой, которая вела в монастырь, кишела толпа серых безликих теней, издалека доносился то глухой гул, то неясное урчание и повизгивание, похожее на нетерпеливый детский крик. Здесь собрались нищие, ожидавшие раздачи монастырской похлебки.
В Кадисе реже, чем в других городах Испании, попадались на глаза оборванные и полуголые люди; но сотни калек, покрытых язвами и коростой, и поныне наводняют города Арагона и Кастилии. Богатый торговый и культурный город Кадис прежде вовсе не знал этих жалких подонков общества; однако во время войны стаи попрошаек, бродивших по дорогам Андалузии, нашли себе приют в импровизированной столице. Словно желая восполнить пробелы и придать Кадису своеобразие чисто испанского города, сюда пожаловало нищее «вшивое братство», которое занимало столь значительное место в истории нашего общества и о котором так много говорили и у нас, и за границей.
Я подошел к этим отверженным и увидел скопище всевозможных увечных; хилые, тощие, едва прикрытые лохмотьями, они были веселы, крикливы и предприимчивы, словно нищенство являлось для них не бедой, а профессией и неотъемлемым священным правом; за неимением других доходов они выпрашивали милостыню у более счастливых представителей рода человеческого. Вышел служка с котлом объедков, и надо было видеть, как, огрызаясь и отталкивая друг друга, они жадно, все разом кинулись к нему, чтобы с надменным видом протянуть свои посудины. Монашек раздавал еду направо и налево, черпак за черпаком, а нищие ожесточенно дрались, стараясь во что бы то ни стало протиснуться вперед. Так, переругиваясь и лягаясь, добивались они своей порции, потом тащились каждый в свой уголок, чтобы спокойно заняться обедом.
Я смотрел на них с жалостью, как вдруг в проеме двери мелькнул передо мной до странности знакомый силуэт. В смущении, не веря своим глазам, я ошеломленно вглядывался в него и думал: уж не грежу ли я наяву? Нищий, привлекший мое внимание (а это был нищий), стоял в неописуемо грязных и ветхих лохмотьях. То, что составляло его одежду, было бесформенной грудой тряпья, которое расползалось при каждом движении нищего. Плащ был не плащом, а мозаикой всевозможных линялых заплат, скрепленных меж собой на живую нитку, так что ветер свободно разгуливал в этой ветоши, проникая в тысячу ее ворот, окон и решеток. Шляпа была не шляпой, а каким-то невиданным предметом кухонной утвари или чем-то средним между миской и воздуходувными мехами, между чехлом и сплюснутой диванной подушкой; под стать шляпе выглядели и остальные части жалкого одеяния, говорившие о крайней степени нужды и запущенности его владельца; казалось, они были подобраны на свалке среди отбросов, непригодных даже для нищих.
Меня поразило, с каким непринужденным изяществом держался этот отщепенец, перекинув плащ через плечо, сдвинув шляпу набекрень, он подмигивал своим товарищам и отпускал остроты служке. Но – ах! То, что меня потрясло куда больше, чем костюм и шляпа нищего, перед которым я растерянно застыл, было его лицо; да, сеньоры, его лицо, ибо узнайте, наконец, что оно принадлежало никому другому, как лорду Грею собственной персоной.
XXII
Казалось, я брежу; я молча всматривался в него, не решаясь заговорить из опасения впасть в ошибку, пока он наконец не окликнул меня.
– Не знаю, милорд, – сказал я, отвечая на его поклон, – смеяться мне или плакать, видя такого человека, как вы, в подобном наряде, с миской в руках у монастырских ворот.
– Такова жизнь, – отвечал англичанин. – Сегодня вы наверху, завтра внизу. Человеку следует пройти по всей лестнице. Не раз, прогуливаясь в этих местах, я с завистью смотрел на окружавших меня бедняков. Их спокойствие духа, полное отсутствие забот, потребностей, связей, обязательств пробудили во мне желание изменить свое положение.
– Поистине, милорд, я в жизни еще не встречал подобной прихоти ни у кого из ваших соотечественников, да и вообще ни у одного человека.
– Вам это кажется заблуждением, – сказал он. – Но заблуждаетесь вы и все, кто с вами одинаково мыслит. Друг мой, хотя это кажется противоречием, но поверьте, чтобы возвыситься над всеми творениями мира, лучше всего опуститься туда, где я сегодня нахожусь… Сейчас поясню вам мою мысль. У меня голова шла кругом от стука молотов в Лондоне, и я рвался сюда, проклиная несчастную страну, где человек не может обойтись без гвоздей, дверных петель и кастрюлек. Благословенна будь земля, где солнце дает пищу и где сам воздух насыщен неведомыми питательными веществами!.. Мой организм издавна восставал против несъедобной мешанины, которой нас потчуют повара, гнусные отравители человеческого рода. Уже с давних пор я затаил злобу против портных, способных на самого Аполлона Фидия [112] Фидий (ок. 500 – ок. 431 до н. э.) – самый знаменитый из древнегреческих скульпторов.
напялить казакин, камзол и галстук, будь это им разрешено. Я испытывал глубокое отвращение к домам и городам – ведь, как мы нынче видим, они служат лишь тому, чтобы артиллеристы, похваляясь своей меткостью, разрушали их для собственной забавы. Я всем сердцем ненавидел нынешнее общество, которое состоит из множества учтивых сюртуков, внутри коих прячется человек. Меня приводили в ужас разговоры о нациях, о политике, о религиозных разногласиях, о войнах, конгрессах и прочих нелепых человеческих измышлениях – ведь, устанавливая законы, сословия, привилегии и догмы, люди изобретают пушки и ружья, чтобы все это разрушить. Я возненавидел книги, ибо в них я нашел доказательство тому, что во всем мире нет двух одинаково мыслящих существ; руки ремесленника создали книгу, как руки монаха – порох, тоже своего рода книгу, говорящую громче обычной, но неспособную сказать что-либо, что не внесло бы новой путаницы в наши понятия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу