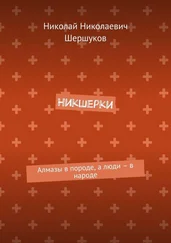Все началось в один из длинных осенних вечеров, когда, возвращаясь домой и не дойдя до угла нашей улицы, я перебежал на другую сторону, так что три девочки, с которыми я шел и из которых меня интересовала только одна, очутились сразу на расстоянии десяти сажен. Дистанция эта меня почему-то воодушевила, и я вдруг закричал: - До свидания, милая Воронцова!
Ответа с той стороны я не услышал, да и не ждал, наоборот, припустил со всех ног домой. Через пять минут я уже снимал пальто и спрашивал хлопотавшую на кухне тетю Саню:
А где папа-мама?
Спрашивал я не зря. Дело в том, что когда я прокричал свою прощальную фразу, мне почудились удаляющиеся в темнота две знакомые спины. (Фонари в ту осень погасли почти на всех улицах- начала сказываться разруха) Слово -не воробей- оставалось надеяться, что родители сидят дома и я ошибся. Но я не ошибся. Через полчаса мама и папа вернулись с прогулки, мы стали пить чай, и мама, передавая мне чашку, спросила:
Кому это ты кричал «до свиданья?»
Не помню, что я пробормотал в ответ, помню только, что по всем правилам литературных штампов я попытался скрыть смущение за самоваром. Даже не видел, улыбались родители или оставались серьезными.
Но этого мало, На следующий день я предпринял еще более смелый шаг. В конце перемены, стоя у дверей класса, я пропустил мимо себя почти всех учеников и учениц, пока не показалась та, которой я хотел сказать и сказал, - ясно, раздельно, бесповоротно:
-Я- тебя - люблю!
Не знаю, слышал ли мои слова кто-нибудь кроме Воронцовой, - подруги ее, может быть, и слышали, мне важно было, что та, для которой мои слова предназначены, слышала: она покраснела, втянула голову в плечи и тихо скользнула в класс. Несколько ошеломленный свое агрессивностью, я через две- три секунды последовал за ней и каждый сел на свое место. Парта, где сидел я, стояла первой в правом ряду, её парта- в среднем ряду- второй. Чтобы взглянуть на свою избранницу, мне надо было чуть- чуть повернуться; за весь урок, а он был последним я не взглянул ни разу. Не провожал её и домой : на этот вечер с меня хватило активных действий.
Какая же она была, Воронцова? Почему я выбрал её среди дух десятков девочек в нашем классе и примерно такого же количества в параллельном? А что такое любовь? – опять спрошу я. Откуда она берется и почему выбирает себе предмет из десятков, сотен, подчас, из тысяч? Наверно, в этих двух классах учились и более привлекательные девочки, даже наверняка, и об одной из них, роскошной блондинке из параллельного, я еще расскажу,- случай и память тесно связали её для меня с Воронцовой.
Могут также спросить: разве до школы я близко не видел девочек, не играл с ними? Конечно, это не так. У наших друзей и соседей были девочки моего возраста, чуть старше, чуть младше; скажем, Лиля, дочь земского врача, необычайно популярного в нашем городе: он спасал порой безнадежных больных, спас и меня, дважды вылечив от крупозного воспаления легких. Лилия Шейнкман мне тоже очень нравилась,я видел, что она очень красива, мы с ней встречались, играли, бегали на гигантских шагах, устроенных на больничном дворе, между домом, где она жила и аптекой. Но любви не было тут ни унции. И дело вовсе не в Лилиной избалованности, не в её капризах, не в том, что, приходя к нам, она совершенно не интересовалась моими игрушками, состоявших в основном из «конструкторов» (тогда их называли как-то попроще,) из которых я стоил мосты и другие инженерные сооружения. Не мешало и то, что в отличие от меня, хозяина уютного уголка за печкой –голландкой, где я любил играть и читать, у Лили имелась отельная детская комната с подвешенной к потолку трапецией, со множеством дорогих игрушек, снизу доверху заполнявших полки вдоль стен; что их дом, их быт вообще был богаче, «стильнее» нашего.
Житейскую разницу между семьями я ощущал,но она ничуть не мешала мне обожать Лилиного отца- весьма редкое чувство: обычно докторов дети обычно побаиваются. Лев Григорьевич, окончивший курс в Берлине,пленял всех и прежде всего меня, веселостью, добротой, врожденным или воспитанным демократизмом. Лиля же для меня оставалась чем-то вроде её большой говорящей куклы… Увы, скоро кукольное благополучие кончилось: их семья переехала почему-то на Урал, в Златоуст, где Лев Григорьевич заболел и умер. Как сложилась дальше Лилина жизнь, не знаю.
А вот девочка из другой среды, дочка пекаря, примерно возраста Лили, но куда менее изысканная Соня была отличным товарищем для шумных игр во дворе, о чем я уже рассказывал, и мало отличалась замашками от мальчишек. Могу представить себе её изумление, объяснись ей кто-нибудь в любви, назови её милой! Да мне это никогда и в голову бы не пришло, как мы ни дружили… (Кстати, не исключено, что я глупейшим образом ошибаюсь и Соня приняла бы объяснение в любви как миленькая!)
Читать дальше


![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)