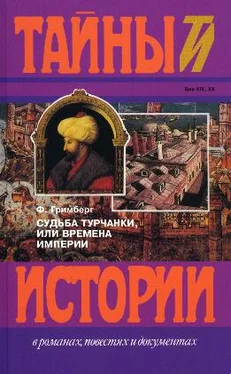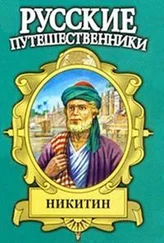Дальше помню... Но я хочу сначала сказать, пока я не забыла... Вот видишь человека, смотришь на него со стороны и замечаешь, когда он что-то делает совсем неправильно и себе во вред, и кажется, вот сейчас посоветуешь ему, укажешь — и он исправится; а не понимаешь: ведь эти его неправильности — это он сам, это его натура, и чтобы ему помочь, надо все время о нем думать, все время придумывать, находить какие-то осторожные бережные слова и действия для помощи ему... А если просто так говорить, то и ничего не получится. И еще и человек может сопротивляться, не верить тебе, и ты сам можешь быть не уверен в себе... И еще... уже другое я хочу сказать... О другом... Иногда просишь человека о чем-то, а хорошо относишься к этому человеку, даже любишь; но когда просишь, уже и сама думаешь о себе: может, и не люблю, может, нарочно притворяюсь, внушаю сама себе эту любовь, чтобы легче было просить...
Да, это... Мы уже сидели за столом... К. уже сказал много пошлостей и какие-то пошлые тосты... Поели уже кое-что... Теперь К. выставил свой крепкий локоть на столе. И Борис как будто отгорожен этим локтем. К. ему что-то гудит напористо, будто шмель, залетевший в комнату... Лазар не может сейчас говорить с Борисом и ест пилав. Нервничает, и чуть убыстрение вилка в его руке подвигается от темно-желтого риса на тарелке к губам, чуточку уже залоснившимся...
Лазару нельзя острое... Но если я ему сейчас это скажу громко... Зачем? Чтобы показать всем здесь, какая я заботливая?.. А если потихоньку скажу... тоже зачем? Чтобы ему показать свою заботливость о нем?.. И только раздражить его понапрасну... Он ведь и сам знает, что ему нельзя острое, и если все-таки ест, значит, ему очень хочется; он меньше нервничает, может быть, когда сейчас ест... Понемногу все равно можно ему острое... Когда у него болит желудок, он прижимает ладони к животу, на лице у него делается такая тревожная тоска, он мечется по квартире, не хочет лечь, он боится смерти, боится — вдруг операция... Я помню, как меня одно время этот его страх раздражал; я чувствовала себя униженной; мне было стыдно, что я люблю человека, у которого болит живот, и он боится так открыто смерти, и у него пахнет изо рта, и он воспринимает свою совсем не страшную болезнь как что-то очень важное, очень-очень серьезное; и эти нестрашные и не такие уж сильные боли заполняют его жизнь, становятся смыслом его жизни... после мне было стыдно за такие свои ощущения... Я теперь могу наблюдать, что Лазар гораздо спокойнее переносит эти приступы, потому что наши девочки за ним ухаживают... Для них это радостно-серьезное состояние, когда они сознают себя нужными взрослому человеку, своему отцу... Старшая умеет уговорить его лечь, а я не могу... По-моему, для них это и немножко игра, но меня удивляет, что они и не пытаются имитировать, как дети при игре «в доктора», какие-то медицинские манипуляции; уколы, например... Они проделывают какие-то странноватые действия и при этом у них какой-то вид полной уверенности в полезности и целесообразности этих действий... Я помню, как это они с таким серьезным видом разложили у него на животе, где желудок, кожурки от огурцов, сверху наложили чистое сложенное вдвое полотенце, и старшая следила по часам, не сводила глаз с будильника, будто было очень важно, сколько времени должна продлиться эта процедура... Он лежит, бедный, в одних трусах, и выражение лица у него такое жалобное и серьезное... И лицо моей старшей девочки не похоже на мое лицо, и когда она смотрела на будильник, как-то я почувствовала в ее лице какую-то нежную внимательность, женственную пристальность... Я не умею так, у меня слишком много своих собственных мнений по самым разным вопросам, и с чужими мнениями я не соглашаюсь, а свои доказываю очень резко... Это плохо... Другой раз маленькая прижала свои ладошки к его животу; как абрикосик она; и серьезность ее личика такая милая, и эта милая напряженность на личике, эта энергическая уверенность, что вот сейчас, еще немножко, и ничего у него не будет болеть...
Лазар бедный... у него и кожа на лице огрубела, и видны седые волоски на голове и в бровях, а на подбородке кожа отвисает немного; и живот выпячивается у него...
И мне так жаль его, и от этой моей жалости к нему он мне такой милый... когда он так лежит... Девочки его очень успокаивают... И странно так: еще недавно совсем, какое тонкое было у него лицо, и нежная темнота на щеках после бритья; а ноги — когда в одних трусиках или совсем без ничего — будто в альбоме Микеланджело; так было странно и радостно, что это все-таки живые загорелые человеческие ноги, не мраморные, и такие совершенные; а теперь бледные, будто отечные, и видно, что на них много волос... И у меня вдруг такое ощущение, будто это все так быстро, как бывает у насекомого или у цветка, на глазах почти, за какие-то считанные дни...
Читать дальше