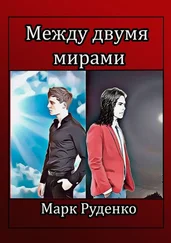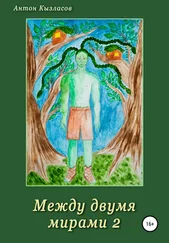«Тогда один из них, по имени Иуда Искариот пошел туда и сказал им: что хотите дать мне , и я вам предам Его…» Я кивнул ему, и тут он стремительно перевернул несколько страниц. «И вот каким будет конец!» Его указательный палец остановился на жалких словах предателя: «Согрешил я, предав кровь невинную». И далее: « Они же сказали ему: что нам до того! Смотри сам! ».
В его открытом взгляде и веселых жестах не было ни следа мрачного фанатизма. Его душа была широка и наполнена солнцем, и он читал отрывки из Библии, воспринимая их смысл тем светлым и сильным духом, который царил в нас, когда мы, добровольцы, смотрели на лунную радугу * (прим. пер.: ночная радуга, порождаемая луной) в божьем небе, отправляясь во Францию. Его христианство было сама сила и сама жизнь. Пробуждение религиозного чувства из страха казалось ему достойным жалости. В глубине своего сердца он презирал буйно разраставшееся и на чужбине, и на родине христианство страха, равно как и ту панику, с которой трус прибегает к молитве. О них сказал однажды: «Они всегда пытаются обманом подчинить себе божью волю. Божья воля не так свята для них, как их маленькая жизнь. Нужно всегда молиться только о том, чтобы Бог даровал тебе силу. Нужно хвататься за руку Бога, а не за пфенниги в его руке». Его Бог был опоясан мечом, и его Христос наверняка нес это лучезарное оружие, вступая вместе с ним в битву. Сейчас он видел, как сверкающий клинок летел в сторону союзников-предателей. И потому глаза его горели.
Молодой офицер не позволял никому трогать свою веру, как и свой темляк. Вера и честь были неразделимы в нем. Позднее я услышал однажды, как один товарищ постарше глупо пошутил о его теологическом образовании. Тогда он посмотрел на него своим умным взглядом и сказал спокойно и дружелюбно: «Богословие — это вещь для тонких умов, а не для чурбанов». Он никогда не терял спокойствия, даже тогда, когда становился груб, и мог достичь совершенства даже в своей грубости.
Постепенно нам начала открываться цель нашего путешествия. Одну из ночей мы провели в Сувалках, а на следующее утро поезд, в котором уже оставалось мало вагонов, бороздил бесконечные хвойные леса Аугустово, направляясь на фронт. Часть дороги простреливалась артиллерией русских. Мы стояли на открытом участке дороги, а тем временем противник забрасывал гранатами наши рельсы. Несколько верхушек деревьев обрушились, словно под внезапными ударами молнии. Часть леса горела, и яркое, горячее зарево пробивалось через тяжелый и густой дым от горящей древесины и смолы.
Спустя некоторое время вражеская артиллерия затихла, и наш поезд снова пришел в движение. Все быстрее ускользали от взора ели и песок, песок и ели. Один раз весь поезд содрогнулся от гремучего треска разрывающейся гранаты, шум которой заглушил грохот колес. Скрежет железа и скрип дерева. Несколько сильных толчков, которые, словно удары кулаками, пробили насквозь красную обивку. Одно из стекол со взрывным треском, похожим на удар кнутом, вылетело из рамы. Вагон резко накренился вправо, зашатался и остановился. Граната ударила под едущий поезд в железнодорожную насыпь и, словно дьявольский кулак, разметала землю под горячими рельсами. Поезд сошел с рельсов и теперь стоял, опасно накренившись, над крутым откосом. Вдалеке, откуда наверняка наблюдали за попаданием в цель из стереотрубы, стрекотал пулемет. Так-та-так-так-так-та-так…
В этот момент Эрнст Вурхе как раз стоял у окна и брился. Когда он совершал движение рукой, внезапно начался треск и грохот. Он легким движением поднял лезвие и крепко вцепился левой рукой в багажную сетку. Мы видели, как товарищи из соседних купе, некоторые только в рубашке, выпрыгивали из качающегося вагона. Мне же рухнули на голову чемодан и мешок с бельем, и это отбросило меня головой вперед. Вскоре я снова вскочил на ноги. Поезд стоял. Я оглянулся в поисках Вурхе и не смог не засмеяться, увидев его. Он чисто довел до конца движение лезвием, вытер с лица мыльную пену и преспокойно сказал: «Ну, теперь можно и нам высаживаться!» Он ничему не позволял вывести себя из равновесия. Выбегать из отсека для бритья при всеобщей панике с пеной на лице, если еще оставалось время на то, чтобы вытереться — нет, это было не в его характере. Хладнокровие было одним из его любимых слов, в нем он видел суть человеческого и мужского достоинства, все его существо словно излучало веселую и спокойную уверенность, и в этой уверенности было столько же человеческого шарма, сколько достоинства мужчины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу