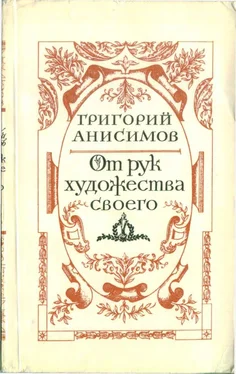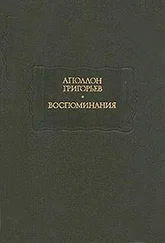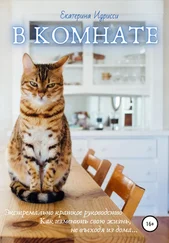Более всего любил Андрей портреты списывать, его хлебом не корми, дай только до персоны дорваться, тут уж он все свое прилежание и умение употребит и живописную науку со всем тщанием применить сумеет. Ему и вольготно, и радостно. Одна забота — достигнуть божественного изображенья души человеческой.
Матвеев все сносил, бывали и у него буйства, но никто их не видел. Сколько раз, придя к себе в мастерскую, сбрасывал Матвеев на пол парадный камзол, срывал с головы парик и топтал их и тер ногами в бессильной злобе. Потом приходил в себя от такого азарта, выпивал чарку водки и становился с бледным, изможденным лицом к мольберту.
Проходило немного времени — Андрей обо всем забывал, начинал напевать себе под нос и насвистывать, а то и вовсе смеялся счастливым смехом. Глядел на свою "Аллегорию живописи", на которой сзади было подписано: "Тщанием Андрея Матвеева в 1725 году". Дивился, сколько доброты было в этой его старой ученической картине. Да и хорошо, что была в нем самом доброта, потому и в картины переходила.
Давно известно: злоба художеству плохая попутчица!
Для Лёхи же толчки и приказы непосильны были, нагрузки художества он не снес, плюнул себе под ноги и сбежал ото всего разом. От дома, от двора, от семьи, от живописи. А почему его жизнь такой вывих дала — и сам того не знал.
* * *
…Клонился день к вечеру, народу вроде поменее у кару-селя стало, видать, скоро и последние разойдутся. Смотрел Матвеев на мелькание круга карусельного, и снова цвет в его глаза вернулся.
Смотрел Андрей, как радостно, будто сорвавшаяся стая борзых, мчались краски вдогонку друг дружке: красный бакан флорентийский за желтым кадмием, ярь зеленая за берлинской, белила за фиолетовой камедью, кубовая синь за вохрой, голубец за александрийской черной. Живописцу, в эту игру красочную вступившему снова, хорошо на душе стало. Одно лекарство было у него от всех напастей и хворостей — видеть цвет, жить им, составлять и раскладывать. Верно говорят: живописцы изъясняются детским языком природы и истины. Ребячье из истинного художника до самой смерти не выходит.
В мечты Андрея заглянуть, так там давным-давно готова была композиция с застывшими фигурами и карусельной трепетной игрой. Немного мечту прояснить, выверить — и в холст можно. Никому за Матвеева той картины не написать. В нем одном только и жива она. Напишет ее — так и станет она жить. А не напишет — так в нем и умрет она навсегда. В том и секрет художества вечный…
Под конец каруселя вертунам жаркая работа. Силы уж на исходе. А Лёха, как Матвеева увидел, совсем скис. Голова кругом, в глазах красный туман, ноги волочатся, словно из свинца их отлили.
Щурит глаза Матвеев, все не устает всматриваться. Лицо у него зарумянилось, нежное, молодое, широкоскулое. Камзол новенький, в глазах уверенность мастера. Живет он ныне прихотливой и своевольной жизнью художника, которая ни на миг не отпускает от себя, самим его существом и дыханием распоряжается. Защемило в Андрее сердце, как дружку Лёху вспомнил. Самого дорогого, душевного. Да ведь не вернешь его. Ты скажи, как вертун-то на Аёху похож! Прямо вылитый. Андрей хотел было пойти и подняться к ним туда, еще поглядеть на того вертуна, но раздумал. Быть же того не может, чтобы с того свету да сразу в карусельные вертуны! А все же что-то не отпускало его. Глаза нет-нет да и упрутся туда, вверх, где стоял на площадке тот бородатый человек.
"Дождусь конца каруселя, еще разок взгляну, — решил Андрей. — А что, если вертун и есть всамделишный Лёха? — промелькнула мысль. — Вот бы было!" Эх, коли б свидеться им еще разок на этом свете довелось! Поговорить бы, душу отвести, оттянуть хоть маленько…
Истинно — слеп человек! Истинно — живет, ничего не зная. А хорошо бы жить и знать, как жить! Как силы рассчитать. Но никем сие не прозревается.
Настоящее переходит прямо на глазах в прошедшее, точка раздела бестелесная, не пощупаешь.
Вспомнился Андрею один древний стих покаянен на умиление души: "Аще б ведал человек житие и бытие века своего, взошел бы на высоки горы, посмотрел бы вниз по земле, увидел бы свой гроб, вечный дом, а тело бы свое поработил, а душу свою б спасал!" Да, спасешь тут…
Никто нас наставленьем не снабдил. Одному радость и счастье в службе и чинах, в преуспеянии, другому — в семье и детях, третьему — в вине и любовных утехах. А у художника бедного есть только кисть. В ней вся его умолченная жизнь. Ударишь головой и задницей, забьешься, а выхода нет.
Читать дальше