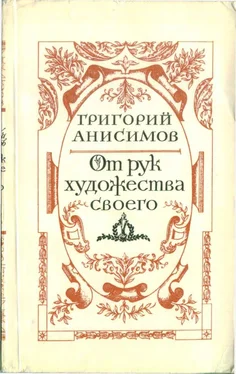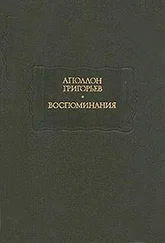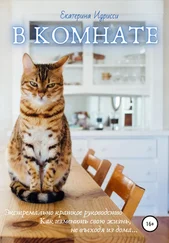Счастье юности нахлынуло на Андрея. Умилением, безмятежностью потянуло из тех лет. И щемящею утратой. Догони, возврати свою молодость! Да попробуй-ка! Нет дорог к невозвратному. И давно же это было! Счастие, мечта… А может, и недавно.
Сошел Андрей с каруселя, неподвижно стал в сторонке. Оставил глазам узкие щелки, сложил пальцы, глянул в кулак — все художники так издавна глядят, чтобы уединиться от всего остального, увидеть несколько дальше, охватить целиком.
Андрей видел в кулак кус неба, клочок каруселя, золотые отблески солнца. Вот она, картина, у него в кулаке, она собирается — просто, ясно. И сильное движение, и свет, и цвет. Уберешь кулак, приставишь снова — опять готовая картина выткалась. Никогда виденное не будило в Андрее такой печали по несделанному. Ну как можно было до сих пор такое не написать! Будто проходило несметное богатство мимо рук и само просилось: "Возьми! На!" А он и бровью не повел. Дурень дурнем, какой тут спрос? Да, многое из давно задуманного не свершено, все некогда, все некогда, все недосуг. То одно, то другое. Проходит земной чудный сон, жизнь на убыль, и все меньше ростом струя родника, что бьет из души. Двор заказами рвет его, а если соберешь картину в голове да не напишешь, так она на мелкие куски рассыплется.
До любимых портретов не доберешься взяться, когда еще задумал Андрей списать несколько парных подобных Голицыным, начал, да на середине и бросил. А куда как интересно рисовать с моделя, с живого человека!
"Баста, хватит отлынивать, приеду и напишу два портрета непременно, хоть трава не расти. А то и неча было рядиться, людей зря морочил. Глаголано есть, должно быть и намалевано".
А народ увязчивый прет к каруселю, хлебом не корми, только волю душе полную дай! На то, видать, русский человек и рожден, всю жизнь готов он в один миг прожить, только чтобы во всю ивановскую гудело, гулять, так до упаду — об этом кровь его вопиет на небо.
Увидел вдруг Матвеев — статной молодухе ногу в толчее отдавили. Захромала она и то плачет, то смеется. Поглядел художник на лицо ее фарфоровое. Пожалел. А девке некуда деться, утерлась головным платком, и дальше ее толпа понесла.
Старается кружильница, встряхивает души и тела, от восторга у многих глаза на лоб выкатываются. А сиденья в каруселе добрые, фигурные: заморские львы, белая лебедь-птица с распластанными крыльями, разные амуры с воздетыми руками и карлы с оскаленными зубьями. Да так все искусно нарезано — любо глядеть. "Дивный мастер какой-то сработал, ишь сукин сын — надо бы имя-фамилью узнать, — думает Матвеев, — может сгодиться".
Глядит живописец, пропитывается виденным, как сахар водой, ничего от зренья его не утаивается. Ни одной крупицы. Так-то видеть все цельно и враз, кроме художника, кто сможет? Разве только стрекозы. И до чего же звонкая палитра красок в этом народном каруселе!
Люди и недвижимость в розовом мареве заходящего солнца расцвечены на особый лад — тут тебе и пурпурный, и желтый, и фиолетовый. Затосковал Андрей по работе, по кистям и краскам. Ему больше открывается в увиденном, полнее и ярче. Художнику и в дереве простом почудятся вдруг райские кущи и царство небесное. На то он и живет воображеньем, домыслом, фантазией и догадкой. Волшебные сны наяву смотрит!
Иному служивому человеку невдомек: и чего с этими художниками носятся, при дворе содержат, деньги немалые отваливают, от повинностей освобождают?! Заставить бы всю ихнюю братию-шатию землю копать, пусть-ка попляшут, жилы порвут. А то они вечно пьют, гуляют, бабьи угодники, и жрут хлеб задарма. И то сказать: о пользах художества здраво судить не многие могут. Те только, кого бог живым разумом снабдил. Бытие земное тленно. Это так, а художество вечно. Сколько художников в землю сойдет, а содеянное-то останется! Картины останутся. Память останется. Чье сердце каменное не шевельнется от этой мысли! Способность жизни человеческой от художества умножается. Как этого-то не понять? Ведь художник на белом свете — подарок, редкая удача. Даже самый непутевый творец на сто голов выше любого государева чиновника…
Прут к каруселю обоего пола люди. Но все же девок и баб много больше. У них потребность к игрищу карусельному захватистей. Прорвутся на круг — обо всем позабудут. Глаза закатят, и сосцы у них под сарафанами торчмя торчат. У них в теле куражу куда больше, чем в голове!
Ан денек-то кончается. Над столетними липами в парке воронье кружит, у них там свой карусель!
Перед вечером с заливных замоскворецких лугов тянет свежестью. Бежит-торопится карусельный самокат — кружит баб и мужиков до полного затемнения памяти.
Читать дальше