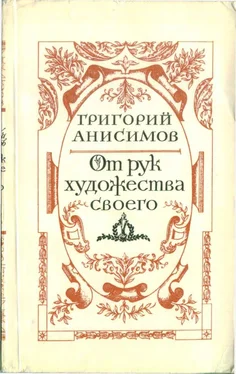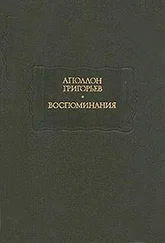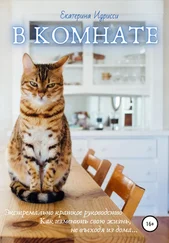Мы с сыном немало от сего претерпели. Я князю Меншикову жаловался на завистников, а он хитровато глянул на меня и со своей снисходительностью сказал, что у них завсегда так было — на одного доброхота по семи завистников приходится и, мол, это еще славно, что только по семи, а то и еще более число таковое возрастать может.
Одно скажу: в какие бы передряги я ни попадал — все равно я духом не падал, воли не терял.
* * *
Однажды в зимний вечер, когда я возился в мастерской с моделями машин для литья фонтанных труб, на моем подворье послышались громкие голоса, смех, протяжно и тоскливо заржала лошадь. В коридоре раздались тяжелые шаги, дверь распахнулась — и в проеме встал царь, опираясь руками о притолоку и нагнув голову.
Я оторопел. А он смотрел на меня жестко, сердито и насмешливо. Мои помощники с грохотом повскакивали со своих мест и застыли в низком поклоне. Я выдержал взгляд царя, пытаясь распознать, с чем он пришел ко мне столь внезапно, отвесил ему подобающий почтительный реверанс:
— Премного обязан, ваше императорское величество, милости прошу входить и располагаться!
Признаться, сердце у меня стучало тревожно. Петр повернул голову назад и махнул рукой. Тотчас же несколько денщиков, обтекая его, бочком пронырнули в комнату с битком набитыми корзинками в руках. А царь стал методично топать в пол сапогами, сбивая снег и звеня шпорами. Потом, опираясь на ражего краснолицего денщика, он шагнул в мастерскую, а за ним из полумрака входили в распахнутую настежь дверь сиятельные, важные сенаторы — князь Юрий Трубецкой, Андрей Ушаков, барон Петр Шафиров. Чуть погодя вошел обер-секретарь Дмитрий Невежин — мужчина такого же громадного росту, как царь, с пышными усами и цепкими глазами совы. В обеих руках он нёс штофы. Входя, они все оббивали башмаки, а денщики помогали им расстегивать пряжки и скидывать тяжелые шубы, от которых валил пар.
Наконец дверь закрыли. Я мог собраться с духом. Сенаторы обстали своего пастыря и молча ждали указаний.
— Ну, непутевый! Граф ты мой любезный, вот видишь, — загрохотал царь своим зычным голосом, — на тебя пишут мне докладные с жалобами. — Он упорно глянул мне в глаза. — А мы к тебе с господами сенаторами в гости препожаловали… Тебя гнать советуют взашей… Ну, как, рад ты нам? Или не рад? Как ты нам на нашу доброту-то ответишь, а? Чем?
Царь придвинулся ко мне вплотную.
— У вас, всепресветлейший государь, невыгодное обо мне впечатление произошло, — ответил я, твердо глядя в глаза Петра. — Великая мне досада, — сказал я царю. — Распри всякого рода всегда производят больше зла, нежели они того стоят. Мне хорошо ведомо: приверженность вашего величества к художеству есть не личина, искусно подделанная. Все в просвещенной Европе уже знают, что государь российский и вседержавный царь разбирается в ремеслах и художествах весьма тонко и даже искусно…
— Ты мне лазаря не пой, милый! — оборвал меня царь, подошел к столу, налил два больших бокала и, поднося один из них мне, сказал: — Ладно, мы с тобой выпьем вдвоем, брудершафт, чтобы дружб наших не рвать. А после и господа сенаторы тоже выпьют. Они — для чего пришли, знаешь? То-то! Хотят лично удостовериться, что труды твои российских денег достойны, коих у нас слишком немного в государстве. А и те, что есть, на ветер летят да разворовываются!
— Так вот, граф любезный, — продолжал Петр, — ежели сенаторы будут иметь заключение, что контора интендантских дел по твоему художеству недоплачивает, то они дадут ей реестр и тебе за все заплатят сполна! А коли не будет от них заключения — не взыщи с нас, а мы с тебя взыщем, так?
— Да и так уж взыскано, — посетовал я. И добавил: — Смею уведомить ваше державство, что верней и естественней союзника, чем я, вам искать незачем. За честность моих правил в деле художества и мою благонамеренность я готов ответить перед богом и государем, коему присягнул. Тщусь пользы прибавить трудом своим и сына моего.
Я почувствовал, что царь держится по отношению ко мне с некоторым холодком, вовсе не так, как прежде. Его настороженность и отчужденность коробили меня и даже пугали, потому что это могло иметь дурные последствия. По всему видно было, что клевет про меня он наслушался немало. Представляю себе, как ему прожужжали уши про мои выходки и капризы, несговорчивость и оспориванья. Да еще и наврали с три короба. Не преминули — про мое высокомерие, зазнайство, наверняка и жалобщиком выставили в его глазах. Я знал и отлично понимал, что держать себя в Петербурге надобно церемонно. Так я и делал. Достоинство, спокойствие, поднятая голова. Это подобает моему званию, положению. В противном случае, если виляешь хвостом, идешь на уступки, то уж не сетуй — сделают тебя всенепременно козлом отпущения, мальчиком для битья, будут верхом ездить, погонять, словно клячу, и так заклюют, так замулындают, что вовек не отмоешься! Знал я об этом и сыну своему велел на носу зарубить.
Читать дальше