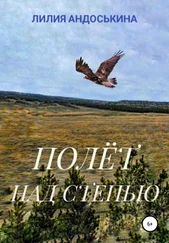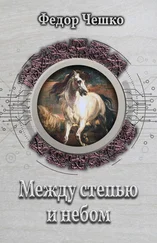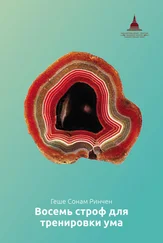Слуги приготовили князю место для отдыха, положили подушки. Но ото оказалось князю не по нраву. Он, дескать, не простой смертный и не желает сидеть, как они, по-собачьи, на земле. И потребовал посадить его выше.
Слуги захлопотали, засуетились, стали придумывать, как в голой степи посадить князя выше всех. И наконец придумали. Пригнули дерево, посадили на него князя и отпустили дерево. Дерево выпрямилось, и князь отлетел далеко в сторону. Перепуганные насмерть слуги подбежали к князю, смотрят, а у князя-то головы нет! Все растерялись. Думают: то ли голову князя оторвало, то ли, может, у него ее и вовсе не было. Стали они искать кругом княжескую голову и неподалеку какую-то голову нашли. Но никто из свиты никогда не видел князя в лицо, как же узнать, его это голова или не его? Долго они думали и спорили. Решили спросить у управителя, уж он-то обязательно должен знать, была у князя голова или нет. Но тот, покачав своей седой головой, ответил так:
— Не знаю, дети мои, была ли у нашего князя голова или ее не было. Когда он был жив, я всегда падал ниц перед ним, ни разу не посмотрел ему прямо в лицо. Я отлично помню, что знаки княжеского отличия — джинс и отго — у него на шапке были. Но вот была ли у него голова, не могу сказать, дети мои. Спросите у его супруги, она должна знать наверняка.
Когда они спросили об этом жену князя, та ответила:
— Нет, и я не знаю. Всю свою жизнь я старалась угодить грозному повелителю и никогда не решалась посмотреть ему прямо в лицо. Помню только, что, когда он меня целовал, усы у него были жесткие. Но имел ли он голову, не знаю.
— Так люди и не смогли узнать точно, была у князя голова или не была! — закончил старик сказку под общий смех окруживших его солдат.
XII
Двадцать недружных — что разрушенная крепость, двое дружных — что каменная крепость
Дружные сороки дракона усмирят.
Народная пословица
Солдаты постепенно привыкли и к казарме и друг к другу. Теперь хужир-буланские бойцы уже не походили на тех солдат, с которыми Ширчин участвовал в боях за Улясутай.
В местных отрядах того времени каждый солдат держался особняком и заботился лишь о себе. Единственное, что их связывало, — это необходимость выполнять свой воинский долг, но в остальном они жили каждый сам по себе.
Местные отряды принимали людей со стороны крайне неохотно, только в случае исключительной необходимости: это было невыгодно, ибо каждый лишний человек уменьшал долю захваченной добычи. В отрядах царила неразбериха; воинская дисциплина, ответственность отсутствовали; если операция не удавалась, старались свалить вину на пришлых со стороны, выгораживая своих земляков, или возложить ее на всех; так что виновных, как правило, не находили.
В Хужир-Булане было иначе. Здесь каждый солдат понимал, что он накрепко связан с остальными тысячами нитей воинского товарищества, дисциплины и чести.
Правда, поначалу и здесь выходцы из одного хошуна, попадая в "чужие" десятки и взводы, стремились перейти к своим землякам, но со временем все привыкли друг к другу и деление на "своих" и "чужих" прекратилось.
Часто, получив увольнительные, солдаты уходили в город, чтобы заработать несколько медяков на плитку чая. Они нанимались чистить дворы, пилить и колоть дрова, работали носильщиками и грузчиками. И тот, кто нанимал хужир-буланских солдат на работу, никогда не интересовался, из какого они хошуна. Все знали, что раз хужир-буланские солдаты взялись за дело, они его сделают хорошо.
И офицерам, и чиновникам, ее торговцам, поставлявшим для хужир-буланских частей военное снаряжение и продовольствие, всем тем, кто кормился за их счет, тоже не было дела до того, из какого они хошуна.
Вот и выходило, что у всех у них, из какого бы хошуна они ни были, общая доля: общие радости, общие тяготы и лишения. Но всего более сближала солдат ненависть к офицерам, и прежде всего к начальнику гарнизона Дамдину, офицерам Тувшинжаргалу, Галсану, Нончигу, Шойву, которые всячески унижали солдат, без конца издевались над ними.
Поняли солдаты и еще одно: умелый воин, отлично овладевший искусством конника, сабельными приемами и штыковым боем, прославляет своим мастерством не только свою десятку, взвод или даже свой хошун, но и все хужир-буланские части.
Хужир-буланцы по праву гордились своим любимцем Сухэ [137] Речь идет о Сухэ-Баторе, будущем вожде Монгольской народной революции. Сухэ — его собственное имя. Батор (буквально — "богатырь, герой") — звание, присвоенное ему за героизм, проявленный в борьбе с китайской реакционной военщиной в период до революции 1921 года. — Прим. автора.
и другими отважными воинами. На русскую пасху несколько лучших солдат из хужир-буланского отряда пригласили в казармы русских войск при консульстве, и они там удивили всех. Их искусная рубка и джигитовка привели в восхищение даже видавших виды казаков.
Читать дальше
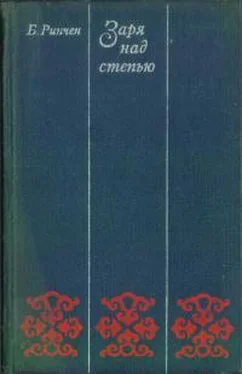


![Георгий Смородинский - Черное пламя над Степью [СИ]](/books/33946/georgij-smorodinskij-chernoe-plamya-nad-stepyu-si-thumb.webp)
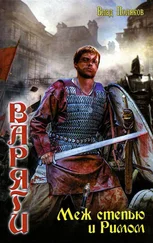
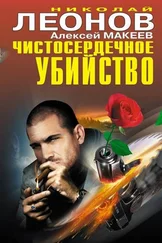
![Федор Чешко - Между степью и небом [litres]](/books/398682/fedor-cheshko-mezhdu-stepyu-i-nebom-litres-thumb.webp)
![Георгий Смородинский - Черное пламя над Степью [litres]](/books/428746/georgij-smorodinskij-chernoe-plamya-nad-stepyu-litr-thumb.webp)