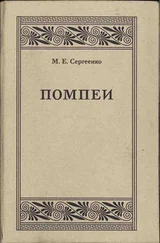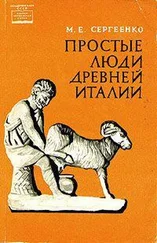* * *
Весна принесла с собой множество хозяйственных забот и хлопот.
Дионисий заставлял себя с головой погружаться в эти заботы, вовлекая в них и Никия. «Пусть будет занят, пусть не точит его все время мысль о Тите», — размышлял он, сам непрерывно о нем думая и зная, что о том же думает и мальчик.
После всех дневных хлопот и забот, поздним вечером, когда все в Вязах спали, Дионисий шел обычно в сад — передохнуть, побыть несколько минут наедине с собой, подумать. Негр неизменно увязывался за ним: у него в саду всегда было дело.
В тот темный весенний вечер пес, вопреки обыкновению, не побежал вперед, а замер на месте, к чему-то принюхиваясь, и вдруг с радостным визгом и лаем кинулся к той беседке, где два года назад Дионисий угощал Тита. Дионисий пошел за собакой. Чьи-то руки обхватили его, и в темноте прозвучал приглушенный шепот Тита:
— Отец! Ты жив, ты здесь! Как Никий?
— Тит! Как мы ждали тебя! Никий… Как он тосковал по тебе!.. И я… Где ты был?.. О Никни большой разговор… Но ты жив, ты жив!.. Ты был у Коллинских Ворот?
— Был… Знаешь, была минута, когда мы думали, что возьмем Рим. Мы подошли к нему близко, совсем близко: золоченые крыши храмов были ясно видны. Нас заметили, к несчастью. И бой длился сутки. Страшный, ожесточенный. Наша армия была уничтожена. А тех, кто сдался и кого Сулла обещал пощадить, тех он бесчестно, подло перебил, безоружных, беззащитных. Телезина нашли среди трупов, без сознания. Сулла приказал его добить. Как я уцелел! Я скитался всю зиму… Жил в горах, чуть не замерз. И теперь я основался в Риме…
— В Риме?!
— Да, в Риме. Никому в голову не придет, что Тит Фисаний живет в двух шагах от Суллы. Я каменотес Децим Геллий; уже вытесал несколько плит. Поселился я в нищем квартале… Как быть с тобой и с Никнем? Где лучше? Здесь или в Риме?
— Увези Никия. Я боюсь за него. Мимо проходят люди… Иногда заходят, просят поесть, передохнуть, иногда полечить. Я не отказываю… и не могу отказать. Среди них есть, конечно, осужденные — по виду сужу: запуганны, стараются проскользнуть незаметно. Если кого поймают… а может, найдется и доносчик… Никий ведь кинется на убийц.
— Но приезжай и ты, Дионисий. Мальчик затоскует без тебя.
— Сейчас не могу. Гармис умирает, Гликерия едва ходит. Как я брошу беспомощных людей? А Никия увези сейчас. Знаешь, он собирался идти убивать Суллу…
— Бедный мальчик! Я пройду к нему. Мне не надо оставаться в Вязах. Мы уедем сегодня же ночью. На берегу меня ждет лихое суденышко…
* * *
Когда парус маленькой быстроходной гемиолы [60] Гемио́ла — легкое, быстроходное суденышко.
совсем скрылся из виду, Карп произнес:
— Увидим ли мы их еще? — тоном, который подразумевал ответ только отрицательный.
— Тебе надо тоже уехать, Карп, — заметил Дионисий.
— И оставить тебя одного? — Карп посмотрел прямо в лицо Дионисию. — Ты выучил меня многому. Я никуда не уеду от тебя. И знаешь, отец, — голос юноши дрогнул, — я так устал от этой злобы, лжи, ненависти… Иногда я мечтаю о смерти… Нет, я никуда не уеду!..
Как жили в Риме Тит с Никием
 Никий, проснувшись на руках у Тита, который вместе с сенником поднял его с постели, сначала подумал, что он видит сон, и, только убедившись, что перед ним явь, а не сон, заплакал тихими счастливыми слезами.
Никий, проснувшись на руках у Тита, который вместе с сенником поднял его с постели, сначала подумал, что он видит сон, и, только убедившись, что перед ним явь, а не сон, заплакал тихими счастливыми слезами.
— Ты жив, ты жив! — твердил он, прижимаясь к Титу и гладя его лицо, волосы, плащ.
Но радость его сразу потускнела, когда он узнал, что надо сейчас уезжать, а дедушка ехать не может. Что Гармиса и Гликерию нельзя бросить, Никий понимал, но легче от этого ему не было. И только обещание Дионисия приехать, приехать вскоре с Гликерией, с Карпом и с Негром, несколько утешило мальчика: дедушка свои обещания выполнял свято.
Гемиола остановилась на пустынном берегу, в маленькой укрытой бухточке около Остии. Невдалеке стояла убогая, покосившаяся хижинка.
Едва матросы успели бросить якорь, как из дверей вышел седой высокий старик и направился к берегу.
— Благополучно? — приглушенным голосом спросил он капитана, обнимая его, и низко поклонился Титу: — Посиди у меня в хижине, дорогой гость! Сейчас я снаряжу лодку. Несколько часов — и ты в Риме.
* * *
Рим испугал и оглушил Никия, и с каждым шагом в этом грохоте и суете ему становилось страшнее. Сначала он спрашивал Тита и сообщал ему свои впечатления («Какие улицы! Да у нас в Вязах грядки шире!»), но скоро замолчал и, крепко ухватившись за руку дяди, только и думал о том, как бы ему не потеряться. Людской гомон, стук молотков и визг пил в мастерских, широко открытых на улицу, зазывания торговцев, выкрики разносчиков, предлагавших фрукты, хлеб и свежую воду, — все сливалось в такой гул, что и взрослому можно было с непривычки растеряться. Людская толпа заполняла полутемные, грязные узкие улицы, которые казались еще уже от высоких, трех- и четырехэтажных, домов; люди шли, бежали, толкались, обгоняли друг друга и друг на друга наталкивались. У мальчика, привыкшего к безмолвию деревни, к ее неторопливой, размеренной жизни, голова шла кругом. Ноги его скользили в жидкой грязи; чья-то корзинка больно стукнула его по голове; кто-то заехал локтем в нос. Вдруг люди шарахнулись и стали жаться к грязным, потрескавшимся стенам домов: четверо дюжих рабов в новеньких золотисто-рыжих туниках, расталкивая и расшвыривая людей, несли серединой улицы, заняв ее чуть ли не целиком, открытые носилки, в которых полулежал, полусидел молодой человек. Он был завит и надушен; на пальцах его и в ушах сверкали драгоценные камни. Он оглядывал толпу с презрительно-покровительственной усмешкой, которая обижала больше ударов.
Читать дальше

 Никий, проснувшись на руках у Тита, который вместе с сенником поднял его с постели, сначала подумал, что он видит сон, и, только убедившись, что перед ним явь, а не сон, заплакал тихими счастливыми слезами.
Никий, проснувшись на руках у Тита, который вместе с сенником поднял его с постели, сначала подумал, что он видит сон, и, только убедившись, что перед ним явь, а не сон, заплакал тихими счастливыми слезами.