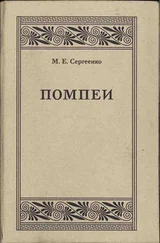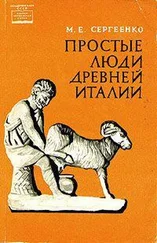— Когда я тебе все это заказывал? — недовольно проговорил Тит.
— Бесценный гость, я не могу видеть, как ты голодаешь! Мне не нужно никаких денег, — нужны твои силы и здоровье. Разве можно поправиться на каких-то жалких маслинах! Не отвергай дара, предложенного от чистого сердца. Мне воздаст за него Зевс, покровитель странников! — Ларих благоговейно возвел глаза к потолку. — Не лишай меня его милости. Что значат по сравнению с ней какие-то жалкие сестерции! — Ларих чуть не плюнул от презрения к этим жалким сестерциям. И вдруг искренне и просто добавил, приветливо глядя на Тита: — Кушай на здоровье, дорогой гость, поправляйся! — и, низко поклонившись, сразу исчез, словно растаял.
— Ну и пройдоха! И захочешь рассердиться — не рассердишься!.. Дионисий, пообедай со мной. Я уже не помню, когда за моим столом сидел друг. Курицу этот ловкач расхваливал по справедливости.
— Я мяса не ем — начитался, знаешь, Пифагора [30] Пифаго́р (VI век до н. э.) — философ; предписывал своим последователям отказ от мясной пищи.
.
— А мне его есть доводилось не часто… Бывало, отобьешь от волка полузагрызенного козленка, вот и жаркое. Но вот яйца, каша, виноград… Вино он не забыл?
— Тебе вина нельзя: может вернуться лихорадка.
— Хорошо, не надо. Вместо вина будет рассказ о том, как ты стал виликом.
Дионисий засмеялся:
— Не жди ничего необычайного. А в наказание за твое любопытство я поведу рассказ издалека. Лет семь… нет восемь назад — я уже года три, как жил в Риме, — за мною чуть свет прислали носилки, и четверо здоровенных молодцов домчали меня к богатому особняку на Палатинском [31] Палати́н — один из семи холмов, на которых расположен Рим. Здесь находились по преимуществу дома богатых и знатных людей.
холме, так что я и опомниться не успел. Дорогой какой-то юнец, не то раб, не то отпущенник, силился объяснить на какой-то диковинной смеси языков — был тут и греческий, и египетский, и латинский, — что с его господином стало вдруг плохо. Меня провели через огромный пустой и холодный атрий [32] Атрий — см. Дом . Дом . — Римский дом состоял из следующих комнат. Через небольшую переднюю входили в главную и самую большую комнату — атрий . В крыше атрия был устроен большой проем — комплювий , через который дождевая вода лилась в бассейн — имплювий . В середине имплювия часто бил фонтан. За атрием находился таблин , кабинет хозяина, в котором он держал бумаги и книги и где принимал людей, пришедших к нему по делам. По сторонам таблина находились триклинии — столовые, где вокруг стола было поставлено обычно три ложа: римляне обедали не сидя, а лежа. Дверь из таблина вела в перистиль — сад и цветник, окруженный крытой колоннадой. В окна вставляли слюду, в непогоду закрывали ставнями.
в большую столовую. Людей было полно; одни лежали прямо на полу, другие на ложах. Тяжелый храп, пьяное бормотанье, разбитая посуда, лужи вина, чад от светильников, приторный запах благовоний, растоптанные цветы… Навстречу мне поднялся огромный молосс [33] Моло́ссы — огромные сторожевые собаки.
— и такой благородной показалась мне эта собака среди всех этих гнусных пьяниц! Она оберегала как умела своего хозяина, она одна! А хозяин лежал белый как мел, и салфетка, которую он прижимал ко рту, была вся в крови. Худой, долговязый… Я сразу увидел, что у него чахотка. И такой страх, такая мольба о помощи была у него в глазах (говорить он не мог), что сердце у меня перевернулось.
— А стоило помогать?
— Человеку всегда стоит помочь. И врач обязан помочь.
— Даже убийце?
— Даже убийце. Передо мной и лежал убийца — только убивал он себя. С какой беспутной расточительностью швырял он свои силы, здоровье, молодость — все, чему нет цены и нет возврата. И швырял даже без удовольствия, даже без увлечения — так, от нечего делать. Был он неглуп, образован, ездил по свету, жил в Афинах, на острове Родосе; слушал наших лучших ораторов, посещал философов. И все с него скатывалось легко и сразу, как дождевая вода с островерхого стога: ничто не задело сердца, ничто не засело в голове. Ему все было безразлично; он никого не любил, кроме своего молосса (правда, из всех, кто его окружал, только он и стоил любви), никого не ненавидел. О политической карьере — он мог ее сделать: у него были и богатство, и связи, и старое блистательное имя Метеллов — он и слышать не хотел. Он вообще ничего не хотел. Его встряхнула только болезнь: он испугался смерти. Это было, по-моему, его первое настоящее чувство. Меня этот двадцатилетний великан слушался, как ребенок. Мне не раз казалось, что молчаливой мечтой его было встретить человека, который стал бы им распоряжаться.
Читать дальше