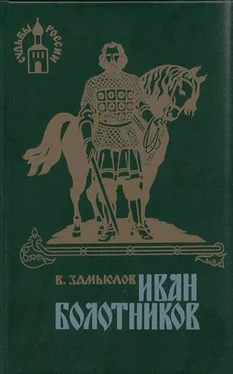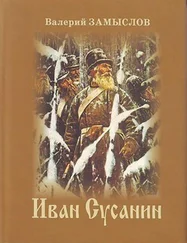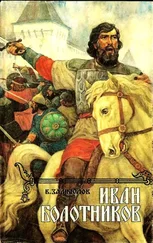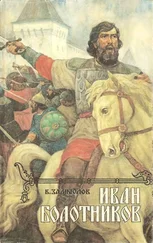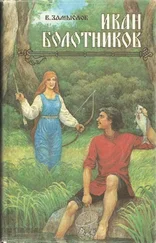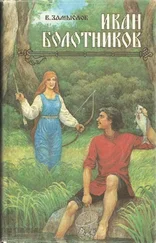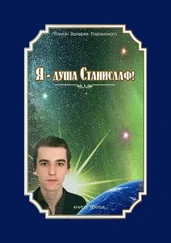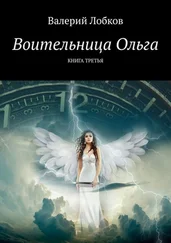Жестоко, кровожадно гуляла по русским землям ордынская конница. Татары (по приказу Шуйского) зорили не толко мужичьи села и деревни, но и поместья служилых дворян, кои были в «нетчиках» либо бежали из царского войска. Василий Иваныч грозился: «Ни одного служилого не пощажу, коль помыслит из войска сойти. Пущай татары усадища громят и хлеба травят. Неча таких помещиков жалеть, коль за царя и державу не хотят биться».
Бегство служилого люда было приостановлено.
Шел второй месяц осады. В Туле кончились кормовые запасы, а помощи ждать было неоткуда: все дороги перекрыты царскими войсками. Начался голод. Купцы и местные дворяне стали прятать хлеб. Болотников и Муромец приказали доставлять укрывателей в Губную избу.
Тульский помещик Иван Фуников, владелец «осадных дворов», чуть позднее напишет в своем «Послании»: «А мне, государь, тульские воры выломали на пытках руки и нарядили, что крюки, да вкинули в тюрьму; и лавка, государь, была узка и взяла меня великая тоска. А послана рогожа и спать не погоже. Сидел 19 недель, а вон ис тюрьмы глядел. А мужики, что ляхи, дважды приводили к плахе, за старые шашни хотели скинуть з башни. А на пытках пытают, а правды не знают: правду де скажи, ничего не солжи. А яз им божился и с ног свалился и на бок ложился: не много у меня ржи, нет во мне лжи, истинно глаголю, воистенно не лжу. И они того не знают, больше того пытают».
Осада Тулы затягивалась. Ни голод, ни перекрестные обстрелы крепости, ни пожары, ни частые штурмы не сломили тульских сидельцев. Крепость стояла непоколебимо.
Наступила мозглая, гнилая осень. Неудачные штурмы, разящие вылазки болотниковцев и непогодье вызвали в войске Шуйского ропот. «Царь Василий, стоя при Туле и видя великую нужду, что уже время осеннее было, не знал, что делать: оставить его (город) был великий страх, стоять долго боялся, чтоб войско не привести в досаду и смятение».
А досада и смятение нарастали с каждым днем. Не осилить Вора, все безнадежней и громче кричали служилые. Надо по усадищам разъезжаться, надо оброчный хлеб с мужиков собирать.
Первым отъехал из войска Шуйского князь Петр Урусов с татарами, чувашами и черемисами. Дворяне еще больше осмелели: некому теперь поместья беглых дворян громить. Побежали! Побежали по своим усадищам десятками, сотнями. Царь Василий бранился, стращал, но удержать служилый люд было невозможно.
«Неуж на Москву возвращаться? — все чаще и чаще ловил себя на беспокойной мысли Василий Иваныч. — Неуж Болотникову и Петрушке Самозванцу позволить из Тулы вырваться?.. А клятва, кою перед всем войском изрекал?»
В один из таких смятенных дней к царю пришел дьяк Разрядного приказа и молвил:
— Был намедни у меня, государь, сын боярский Иван Кравков, что из города Мурома. На твое имя челобитную подал. Предложил сей сын боярский хитроумие сотворить, от коего ворам придет погибель.
— Сотворил один под Калугой, — усмехнулся Василий Иваныч, намекая на «подмет» Скопина-Шуйского, — так, почитай, двести верст сломя голову от воров бежали. Буде с меня всяких хитроумцев, буде!
Но дьяк не спешил уходить.
— Дело, кажись, стоящее, государь. Иван Кравков предлагает сделать заплот на реке Упе. Вода-де будет и в остроге, и в городе, и дворы потопит, да так, что вся Тула в воде окажется. Воры от потопу со стен начнут прыгать.
Василий Иваныч закатился от едкого, кудахтающего смеха.
— Ну, уморил!.. Целый город затопить. Это ж надо до такого додуматься. Ну и распотешник твой Ванька Кравков! Ужель в полном уме?
— Пусть, сказывает, государь меня казнит, коль Тулу не потоплю.
Царь Василий смеялся до слез. Посмеялись и бояре, прознавшие о задумке боярского сына из Мурома.
Но Скопин-Шуйский отнесся к Ивану Кравкову без ухмылки, намеренье его показалось Михаиле весьма толковым, и чем дольше он беседовал с Кравковым, тем все больше убеждался, что перед ним наиумнейший человек, истинный самородок, коих нередко рождает русская земля.
Михайла пошел к царю.
— Иван Кравков зело разумен, государь. Тулу и впрямь можно затопить.
Василий Иваныч выслушал Скопина, выслушал Кравкова и собрал бояр на совет. Уж чересчур неслыханное дело затеял Ванька Кравков из Мурома! Сколько людей, сколь земли надо для заплота! И все ж надумали.
Место для заплота было выбрано при впадении в Упу реки Вороньей (чуть ниже ее устья), на правом, болотистом, пологом берегу. Заплот надо было поднять и протянуть на полверсты. Царь выделил «на пособ» Кравкову ратников, «даточных» людей и мельников. С утра до ночи «секли лес и клали солому и землю в мешках рогозинных и вели плотину по обе стороны реки Упы». Дело было тяжкое, долгое; чтобы ускорить работу, Михаила Скопин посоветовал ставить срубы-туры и набивать их мешками с землей.
Читать дальше