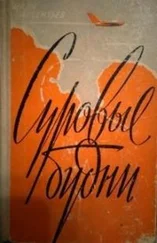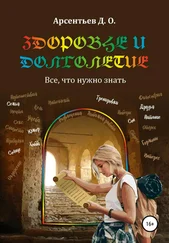Павлов рассказывал это так, что трудно было понять: возмущен он выступлениями социал-демократов или ему доставляет удовольствие повторять то, с чем он сам, быть может, согласен, но сказать в открытую не может. Кошко знал его человеком добрым от природы, но помимо сердечности он был еще и преуспевающим петербургским чиновником, так что пальца ему в рот не клади. И если он всерьез думает так о правительстве, то следует вскорости ожидать еще чего-то.
— А что еще оставалось государю, как не coup d’état [9] Государственный переворот (фр.) .
? — развел руками Кошко. — Дожидаться новой пугачевщины? Ведь Дума не только приступила к выработке своего земельного закона, но раззвонила об этом в печати, взбудоражила все крестьянство.
— А расхлебывать приходится нам, — подал голос Блок.
Кошко понял, что тот имеет в виду, вздохнул.
— Проводить реформу будет весьма нелегко, — продолжал Блок. — Русский мужик привык к общине.
— Но и другого выхода нет, трудности случаются вначале при всяком нововведении. Чтобы новые идеи проникли в общество, нужно бороться за них, а потом уж дело пойдет, — заметил с бодрой уверенностью Кошко.
— Если люди не хотят быть счастливыми, нужно их заставить, и все! Иначе не поймут, — подхватил Павлов с блуждающей язвительной усмешкой.
Блок слушал собеседников, а думал, казалось, о своем и глядел из-под насупленных бровей в открытую дверь балкона. На последних словах Павлова он повернул голову, заговорил медленно, этакими крупнозернистыми фразами:
— Блажит русский народ. Блажит тупо, подловато, себе на уме… — Сделал паузу, поморщился страдальчески. — Поглядите, что делается в губернии! Грабежи, поджоги, потравы. Агитация огромна… Везде ночами на улицах галдеж, оскорбительные вопли… Учреждения власти на границе безумия… больны… расшатаны. Печать смердит страшно. Полиция щелкает наручниками без толку, вокруг пустоты щелкает…
Павлов перебил его с циничной ухмылкой:
— Видимо, велика, как говорил Лукреций, сила, вырвавшаяся из-под гнета судьбы.
Блок вздохнул озабоченно:
— К великому сожалению, мудрый Лукреций остается созвучен и нашему взбаламученному веку. Слишком много «идей фикс» появилось. Люди в пустоте своей и ущербности повыдумывали идеалов… Создали из своих же бед и разочарований и надеются на них, пока не умрут. Неосознанная комедия… Какой-то Маркс сочинил какую-то всеобъемлющую, с позволения сказать, науку, объясняющую якобы любые стороны существования и общественной жизни. Смешно! А в чем смысл этой жизни, полной ужасов и страданий? Во имя чего так держаться за жизнь, если каждого ждет неизбежная смерть? Никто, никакой философ ответить не рискует. Нет святого идеала — мозговерчение одно… Крошатся традиции вековые, качаются устои. Яд отрицания разъедает души, водоворот революции поднял со дна темные буйные силы, а мы надеемся на реформу, как на какую-то панацею. Нет, господа, это всего лишь бочка масла, выплеснутая в бурное море… Лишь бы чуть-чуть пригладить свирепую волну. Не то все это, не то, господа… Петр Алексеевич [10] Петр Первый.
, а не Петр Аркадьевич нужен России…
Павлов смотрел с удивлением, как шевелятся тонкие, по-старчески розоватые губы Блока, которым пристали бы больше пылкие политические речи, а не пессимистические монологи, и усмехался про себя. Кошко омраченно поеживался, ему стало как-то стыдно за губернатора, проявляющего столь неприкрыто томление своего духа. Нет, характеристика, данная ему Столыпиным, явно не соответствует действительности. И настроение, и разговор, и внешность Блока производили тягостное впечатление. Такие не от мира сего лица Кошко видел в гробах. «А ведь вначале казался совсем другим. Или это кутерьма последних дней так его распотрошила?» — задумался Кошко и с легким презрением на холеном лице откинул свое могучее тело на спинку кресла так, что затрещало дерево. Павлов сосредоточенно рассматривал ногти, что-то соображая, висело тягостное молчание. Блок посмотрел на часы, торопливо поднялся — время было начинать совещание. Кошко и Павлов тоже встали, пошли в зал, где собрались вызванные чиновники и биржевики.
После совещания Блок сказал, что ему надо побывать где-то в городе, а затем он заедет в гостиницу отдать визит Павлову. Приехал он часа в три пополудни. Кошко сидел у Павлова, они беседовали. На столике стояла запотевшая бутылка, похожая на черную кеглю, — охлажденное Сан-Рафаэльское. Павлов наполнил бокал, пригласил Блока к столу, но тот отказался. Был он весь какой-то беспокойный, нервный. Толстая складка на шее свисала на воротник, взгляд рассеивался по номеру, останавливаясь то на несвежих обоях, то на ярко начищенных медных отдушинах, то на дорогой обшарпанной мебели. Прошелся по номеру туда-сюда, потирая о ладони блестящие полированные ногти, и, словно продолжая начатый еще до совещания разговор, молвил отрывисто:
Читать дальше