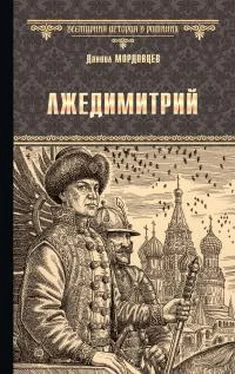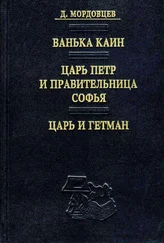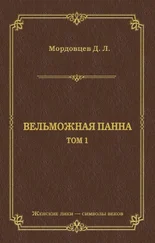Димитрий обратил внимание на тетрадку.
— Это ты пишешь? — спросил он, рассматривая писание.
— Я, государь, — отвечала девушка, зарумянившись слегка.
— Какая ж ты искусница книжная. Уставом пишешь. А это противень? — спросил он, указав на раскрытую книгу.
— Противень, государь.
— И какая у тебя заставка вышла важная. Вязь зело мудрёного узору. И киноварь знатная, — говорил он, любуясь писанием девушки. — Кому это?
— Матушке игуменье, государь.
Димитрий ласково посмотрел в добрые глаза девушки и задумался. Ему, видимо, хотелось спросить её о чём-то, но слово не шло из горла — тяжёлое слово...
— Ты давно здесь, друг мой Аксиньюшка? — нерешительно спросил он, рассматривая тетрадку.
— Со Предтечина дня, государь.
Нет, не шло из горла то слово... Тяжёлое слово...
— Тебе не след здесь жить, Аксиньюшка, ты не черница. Не радостна жизнь чернецкая.
Ксения молчала. Какая же у неё могла быть другая жизнь? Что у неё осталось? Дорогие могилы, но и они заброшены, поруганы. Могила и её ждёт — могильная келья монастырская. И в сердце её невольно заныла её же собственная песня:
Ино мне постритчися не хочет.
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья.
На добрых молодцов посмотрити...
— Я тебя возьму отсюда во двор... Твой терем тебе и остался — в нём и будешь жить, — снова сказал Димитрий.
— Спасибо, государь... Я не знаю... Мне...
— Что, мой друг? Ты будешь не одна — все твои подружки будут с тобой. Мне сказывали, у тебя в приближении были Арина, князя Телятевского дочка, да Наталья Ростовская, княжна Катырева, — их и возьми к себе в сенные.
Ксения вспомнила свой терем, своих подружек — и горькая песня снова заныла в сердце:
Ино охте мне, молоды, горевати.
Как мне в темну келью ступати...
Слёзы опять брызнули из добрых глаз — белая грудь ходенём заходила.
— Да Господь же с тобой, родимушка моя! Почто убиваешься? По матушке — по батюшке? Ох, бедная сиротинушка. Да не сироточка ты — я у тебя остался, девынька милая.
И он тихо гладил ей голову, как маленькому ребёнку, и, пригнув к себе на грудь, нежно шептал: «Господь над тобой... Господь над тобой. Я тебя так не оставлю, дитятко горькое».
А она, бессознательно отдавшись этим ласкам, смутно ощущала внутри себя что-то могучее, протестующее и в то же время всем телом чувствовала такую слабость, такую истому, что точно тело это всё размякло, осунулось, — и вся она как-то навалилась на Димитрия. Она испытывала какое-то смешанное ощущение: то ей чувствовалось, что это она на груди у матери, у брата Феди, то нет — что-то не то, что-то более томительное и ослабляющее... Не то сон клонит, голова сама валится с плеч, кружится... Сердце не то остановилось, не то замерло, захлебнулось... Это от слабости, от головокружения. «Дядюшка... Дядя», — шепчут губы.
— Родная моя, голубушка.
— Слава государю нашему, Дмитрей Иванычу — слава!
— Матушке его благоверной, государыне царице — слава!
Димитрий опомнился. Эго москвичи и подмосковники, узнав, что царь в Новодевичьем, пришли поглазеть на него и покричать. К тому же был праздник, так народу собралось видимо-невидимо. Очнулась и Ксения: она освободилась из объятий своего новоявленного дядюшки — и вся зарделась.
— Так я отдам приказ, Аксиньюшка, чтобы тебе твой терем приготовили, — сказал он, оправившись от волнения.
— Спасибо, государь. Только мне негоже в мир идти — не пристало.
— Для чего не пристало?
— Я сирота, государь, безродная.
— Не безродная ты, Аксиньюшка: мой род — твой род.
— Митрей Иванычу слава! — ревели голоса. — Многая лета государю-батюшке!
Димитрий должен был выйти.
— Прощай, Аксиньюшка, — сказал он ласково и, положив обе руки на полные, круглые плечи девушки, поцеловал её в лоб и перекрестил. — Будь здрава и помолись обо мне. Готовься в терем свой.
И он вышел. Ксения едва могла прийти в себя — так всё это нечаянно случилось, что она даже не могла понять, что ж это такое было? Она ожидала чего-то страшного, чего-то такого, что вызывало в ней ужас смерти и самые мрачные воспоминания. Она и пришла в ужас, когда вошло к ней это ожидаемое, это что-то такое, чего она не могла себе представить. И вдруг — словно заколдованная голосом чудовища, она забыла всё, растерялась. Эго было не то, чего она ожидала, — и это срезало всю её молодую волю, которая налажена была на протест, на борьбу, на ненависть. Случилось совсем не то: этот ласковый голос, эти добрые, участные глаза, эти слёзы, ласки — всё это потянуло к себе одинокую, истосковавшуюся девушку, для которой мир стал пустыней. Эго точно Федя приходил — так не страшно с ним — он родной... То несчастье, страшное несчастье — от Бога, от его святой воли, а этот, что приходил, ни при чём тут — он добрый, он плакал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу