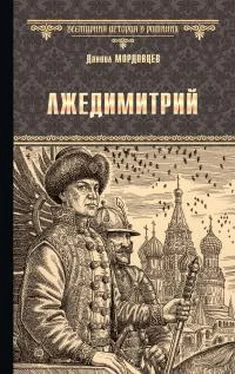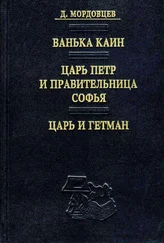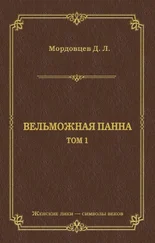— Добре, добре, дид! — кричит казак, выплясывая середи улицы, то навприсядки, то семеня ногами и поднимая невообразимую пыль. — Добре! Добре! Ще накинь, ще пиддай жару, старче!
И старец поддаёт жару.
— От так! От так! Добре! Ще вдарь...
А старый рот вместе с бандурой выговаривает:
«Коли б тоби горенько та печаль,
То б ты выйшов на улицю та й кричав,
А то ж тоби горенька немае:
Ой хто ж тоби ци кучеры звивае?»
Откуда ни возьмись ещё один казак, маленький, рябой, кирпатенький, с шапкой в половину своего роста, и тоже взявшись в боки, начинает выплясывать лицом к лицу с высоким товарищем и выговаривать:
«Була в мене дивчина Орися,
Тоби в мене ци кучери вилися,
Була в мене дивчина Уляна,
Вона ж мени ци кучери звивала,
Була в мене дивчина Варвара,
Вона ж мени ци кучери порвала,
Була в мене дивчина паскудна
Вона ж мени ци кучери паскубла...»
— Тютю, чёртовы дити! Якого вы гаспида бисетесь? Хиба не бачете — ось свята Покрова, корогви.
«Чёртовы дити», усатые плясуны, оглядываются — перед ними на коне батько-атаман впереди своего войска. Знамёна с образами на них и крестами. Войско валит Крещатиком — конные, пешие, босые и обутые, разодетые и ободранные. Батько-атаман, да это тот самый запорожец, которого мы видели на Дону с Отрепьевым.
— Оце жие наше войско, — говорят оторопелые «чёртовы дити» плясуны. — Идемо с московским царевичем... А мы от и разтаньцювались тут соби на лихо.
Войско двигалось в беспорядке. Это была небольшая часть его, исключительно днепровские казаки, часть того двухтысячного отряда казацкого, который соединился с Димитрием и его польскими отрядами, не доходя Киева, в дороге. Этот отряд шёл разведать о месте переправы через Днепр, собрать и приготовить киевские паромы. Батько-атаман едет впереди своих «хлопцив».
Снизу, от Днепра, скачет какой-то всадник и машет шапкой.
— Зрада! Зрада! — кричит он, подскакивая к отряду на взмыленном коне.
— Кого ж чёрта ты кричишь? Яка там зрада? — осаживает его батько-атаман.
Этим разведочным отрядом или авангардом и командовал Куцько-атаман. Чтобы придать отряду более обаяния, он в дороге, в одном селе, захватил церковные хоругви, которые передал ему священник того села, не хотевший, чтобы его церковь обращали в униатский костёл.
— Яка зрада? — спрашивает атаман вестового.
— Ходу нема через Днипро. Паромы вси пропали.
— Як пропали?
— Так и пропали. Мени там казав один старец печерьский, що се московська закарючка.
И они оба отъехали в сторону. Толпа, что слушала кобзаря, глазела на отряд. Казаки заигрывали с дивчатами, перекидывались остротами с парубками, называя их «лежебоками», «винниками», «броварниками», звали с собой в казачество. То же говорил и кобзарь:
— Идить, хлопца, погуляйте в поли.
— Ика закарючка, кажешь ты? — спрашивает атаман вестового.
— А от — яка. Сюды из Москвы от патриарха Иова приихав до воеводы пана Острожьского москаль — Ахвонька Пальчик з грамотою, буцим то царевич, не царевич, а биглый дьякон... Так пан Острожьский и поховав уси паромы. Чернец знае, де вони.
— Овва! Биглый дьякон. Мы им дамо биглаго дякона. Гайда до воеводы!
IX. Годунов и мать Димитрия
Со времени самой опричины никто не запомнит, чтобы на Москве стояла такая молчаливая угрюмость, какая окутала этот всегда шумный город с лета и особенно с осени 1604 года. Словно моровое поветрие согнало всех с улиц и площадей в дома, словно невидимая чёрная немочь неслышно ходит по базарам, стогнам и закоулкам города и, стуча костлявыми пальцами в окна, ворота и двери домов, лавок и амбаров, зловеще просит: «Отоприте, отоприте», — и люди, слыша этот зловещий стук, ещё крепче запирают ворота, двери, ставни... Показывающиеся на улицах прохожие спешат скорее пройти, чтобы не встретиться с кем, а встречаясь, спешат разойтись, не глядя друг другу в лицо. Уныло звонят церковные колокола к утреням, обедням, вечерням: богомольцы тихо сходятся в церквах, горько плачут и молятся и так же тихо, безмолвно расходятся по домам. Словно зачумлённые бродят по городу собаки, подняв хвосты, и, не видя обычного оживления на улицах, воют, наводя тем ещё пущую угрюмость и тоску.
Да и как не угрюмиться Москве? Каждый день эту угрюмость увеличивает стук топоров, который от зари до зари раздаётся то на Красной площади, то на Самотёке, то на Болоте, то, наконец, в самом Кремле, у тайницкого обрыва, против самых окон кремлёвского дворца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу