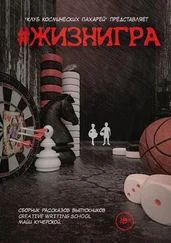Скучаете, должно быть, по своему Петербургу?
Радович опомнился, что дольше молчать просто неприлично.
Отчего же скучаю? Я люблю деревню.
За окном мотнулись черные ветки. Полыхнуло на мгновение голубым. Заворчало раскатисто.
Первая гроза, – тихо сказала Нюточка.
Никто не ответил.
У вас свое имение?
У родителей было имение в Тамбовской губернии. Его пришлось продать. Я мал был совсем. Едва его помню.
Так откуда же вы любите деревню?
Что за расспросы, Туся? Это неучтиво, – не выдержала Борятинская.
Мейзель, не поднимая головы, ел. Уши его, локти, челюсти, даже брови двигались мерно, словно механические.
Наталья Владимировна имеет право знать, ваше сиятельство. Я никаких тайн из своей жизни не делаю. В отрочестве и юности я каждое лето гостил в Кокушкине. В имении Бланка.
Мейзель перестал есть.
Это Черемшанская волость Казанской губернии. Очаровательные места… Охота, рыбалка.
Вы любите охоту?
Радович не успел ответить. Мейзель смотрел на него в упор. Зрачки громадные, во всю радужку.
Чье имение? – спросил он очень тихо. – Извольте повторить. Я не расслышал.
Б-б-ланка.
Доктора Бланка?
Радович почувствовал, как рубашка на спине, под мышками стала мокрой, ледяной. Прилипла. Происходило что-то страшное, и он не понимал – что именно. Никто не понимал.
Мейзель продолжал смотреть – и на лбу его, на верхней губе каплями собирался пот, стариковский, мутный. Словно они с Радовичем были системой сообщающихся сосудов.
Это было имение доктора Бланка, я вас спрашиваю? Доктора Бланка?
Радович кивнул.
Он понятия не имел, кем был Сашин дед. Саша и не говорил никогда, кажется. Дед умер в семидесятые годы. Дом принадлежал его дочерям и целому выводку их детей. Летом в Кокушкине было не протолкнуться. Они с Сашей на сеновал уходили ночевать. Места в доме просто недоставало.
Мейзель вытер лицо салфеткой – размашисто, будто вышел из бани.
Это невозможно.
Отчего?
От того, что вы лжете.
Что здесь происходит, господа?
Я не лгу. Я действительно гостил. Это всякий может подтвердить. Имение принадлежит его детям…
Доктор Бланк не имел детей. Поскольку не был женат. Он умер в 1831 году. Я сам его…
Мейзель вдруг замолчал. Краснота, почти синева заливала его лицо – снизу, от шеи. Вены на висках и горле надулись.
Что происходит?! Григорий Иванович!
Грива!
Кто вы такой? Кто вас сюда прислал?! Кто?!
За окном с треском разорвалось черное небо. Дождь ударил во все десять окон – невидимой яростной шрапнелью.
Кто?!
Мейзель вдруг оскалился, перекосился, будто что-то чудовищное попыталось вырваться у него изнутри. И еще раз попыталось. Но не смогло. Мейзель захрипел, вцепился в скатерть и повалился на бок, и вслед за ним отправились в небытие, звеня и опрокидываясь, перепуганные бокалы, тарелки, розы, празднично сияющее серебро.
Грива! Грива!
За полночь прибывший бобровский врач констатировал удар. Пустил кровь. Рекомендовал покой. Тихо посоветовал плачущей Борятинской молиться. Скоро все закончится.
Идиот.
Мейзель, очнувшись, первым делом выгнал и Борятинскую, и Тусю вон. Убедился, что вполне владеет руками и ногами. Кряхтя, доплелся до зеркала. Рот чуть уехал на сторону, но голова работала отменно.
Мозговой спазм, слава богу. Всего лишь. Пронесло.
Он попытался умыться – и снова потерял сознание.
Туся, караулившая под дверью, вскрикнула, вбежала – и всё в доме затопотало, забегало, подчиняясь ее голосу, распоряжениям – коротким, резким и точным, как шенкеля.
Воронежская больница оказалась не так плоха, как Мейзель предполагал. Его разместили в отдельной палате – роскошество немыслимое. Лечили водами, модным электричеством, прислушивались к мнению. Особо не досаждали. Всего пару недель, Грива, клянусь, я буду приезжать. Приехала дважды – странная, издерганная, похудевшая. Волновалась, должно быть, бедная, за него. Мейзель попробовал поговорить о Радовиче, но она отмахнулась – у тебя был удар, Грива. Ты был не в себе. Мне нужен человек на конюшнях. С образованием, грамотный. У меня большие планы. Великие. Быстрее поправляйся. Я без тебя не справлюсь. Никак.
Он поверил. Может, и правда, выживает из ума? Отравил ядом сам себя, а винит других. Мало ли на свете Бланков, в конце концов?
Мейзель убеждал себя, втолковывал, будто заговаривал собственный страх. Но, окрепнув, все-таки доплелся до полицейского участка – и только там понял, что не знает, о чем просить. Никаких преступлений Радович не совершал. Вся вина его была в том, что он упомянул фамилию Бланка. Мейзель все же попытался навести справки – его просто турнули, вежливо, но непреклонно. В розыскных альбомах никакого Виктора Радовича не значилось. Под тайным надзором он не состоял. Идите с богом, папаша. Тут без вас делов невпроворот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Марина Степнова Сад [litres] обложка книги](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-cover.webp)
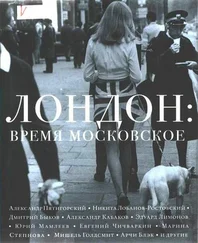







![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)