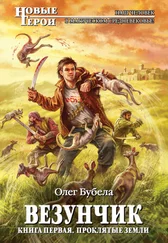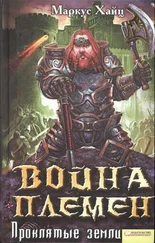Что было в силах людей — они сделали, что могло сгореть — сгорело. Сгорела и лавка, и дом Параско Томиди, хотя и он выходил сторожить добро. Его жена, за юбку которой цеплялись детишки, рыдала и била себя в грудь, не в силах понять, куда делся ее супруг и почему не спасает имущество. Только наутро она нашла его обгоревшее тело, но не заметила ножевой раны, поскольку в том месте спина его совершенно обуглилась. Не нашла она на пепелище и железной шкатулки, известной только ей одной, и так и не узнала, расплавилась ли она при пожаре или была украдена. А она была украдена. Лишь занялись огнем первые постройки, один из поджигателей, приземистый курчавый грузчик, притаился у лавки менялы и, выждав, когда Томиди снимет замок, чтобы войти, всадил ему свой кривой нож под лопатку. Потом он обыскал полки в задней комнатушке, но захватил с собой только шкатулку. Со временем золотые монеты из нее, в том числе и та, старинная, перекочевали в карманы других людей, на это золото они делали покупки или развлекались, платили им за то, чтобы спастись от тоски, страсти или дурной болезни, часть драгоценного металла попала в далекие края, но выпуклая монета задержалась, ее неохотно выпускали из рук, так как цена ее была велика, никто не рискнул разменивать ее по мелочам, и может поэтому, а может и случайно, она еще долго оставалась на холме.
Много людей и зданий пострадали в ту ночь от пожара. Конак все же уцелел, хотя и попал в кольцо огня, чуть было не перекинувшегося через ограду. Стражники храбро сражались с ним на соседних улицах и дворах, впереди всех, выпятив грудь, как лев боролся с огнем Давуд-ага, пока сорвавшаяся откуда-то горящая балка не свалилась ему на голень. Скрипя зубами, он кое-как добрался до конака, но по-настоящему нога разболелась только на следующий день. Давуд-ага лежал в бывшем гареме визиря, на той самой широкой постели, где тот предавался любовным утехам со своими женами. «Вот где у нас слабое место… И у меня, и у Ракибе», — мелькало у него в голове всякий раз, когда его взгляд падал на распухшую, намазанную снадобьями ногу. Перед заходом солнца его зашел проведать хозяин, и лицо Давуда-аги засияло от благодарности. После воспоминаний о кобыле его единственным сокровищем была верность Юсефу-паше. Человек ученый и могущественный, паша иногда вызывал его для беседы, посвящал с самого начал в свои замыслы, и в этот раз, осмотрев его рану и успокоив, тоже поделился тем, что им еще предстоит сделать, и упомянув о предстоящем отъезде, как бы между прочим заметил, что Абди-эфенди наверняка прячется у Нуман-бея, там-то и нужно устроить ему ловушку.
Беседуя, Юсеф-паша никак не мог отделаться от тоскливого чувства, преследовавшего его весь день. Возможно, причиной его было бездействие, или пожар, который несомненно оторвет людей от богоугодного дела, или неудавшаяся церемония посвящения Инана. Два часа сна в неурочное время не придали ему бодрости, просыпаясь, он вспомнил, что во сне ему привиделись какие-то каменистые холмы, таращившееся на них солнце и прорезавшая холмы дорога, галера на ней, а в галере он сам, в цепях и с веслом в руке, рядом — Инан, а впереди, прикованные к веслам, гребли визирь и карлик, Давуд-ага и Абди-эфенди, Кючук Мустафа и Хасан, сын Хюсри-бея, и еще какие-то люди, вереница которых была бесконечной, и сон был бесконечным, все в нем было смутным, размазанным, изменчивым, паша даже не мог с уверенностью сказать, приснилось ли это ему или он слышал о чем-то подобном и как вообще его настигла такая нелепица на разогретой телом постели. Он поспешил выбросить все это из головы, забыть и, окончательно проснувшись, действительно забыл, поскольку воспоминания о сновидениях приходили к нему в состоянии полусна-полубодрствования. «У души свои тайны, — думал Юсеф-паша, — и человек, приютивший ее в своей телесной оболочке, не в силах проникнуть в них». В тот самый момент, когда он выходил из комнаты Давуда-аги, паша вдруг осознал, что ему приоткрылась одна из таких тайн — на самом деле ненужная, глупая и неприятная. О существовании ее он мог судить лишь по легкой тени, которую она бросила на его настроение, но в чем была суть этой тайны, понять ему было не дано, поскольку она скрылась в глубины, недоступные ни для телесного, ни для духовного зрения. «Быть может, там, — продолжил размышления паша, — перед троном всевышнего душа открывает все свои тайны, а мы с изумлением смотрим на нее, не узнавая в ней свою душу, ибо на этом свете она обманывала нас и позволяла обманывать всему свету. О аллах, мы ли живем в этом мире или кто-то живет вместо нас?»
Читать дальше