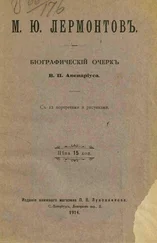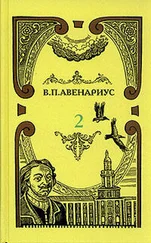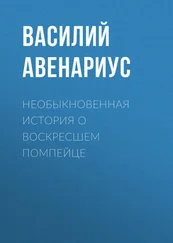– Да здравствует император Наполеон!
Такова слепая любовь французов к сему бичу рода человеческого, околдовавшему их своими злыми чарами!
Фельдшер отбирает опять у больного отрезанную руку и относит в угол, где свалена какая-то кровавая груда. Лейтенанта передергивает.
– Что это, доктор? Бог ты мой! Да это все ведь руки и ноги?
– Да, «пушечное мясо», – говорит Бонфис. – Для него (разумей: для Наполеона) мы все ведь только пушечное мясо!
Д’Орвилю делается дурно. Бонфис велит подать ему вина; потом, когда тот оправился, ощупывает у него щиколотку.
– Пустяки! – говорит. – Простой вывих. Я причиню вам некоторую боль; но без этого, простите, невозможно.
В ноге лейтенанта что-то хрустнуло; сам он весь побледнел, потом покраснел, но не пикнул.
– Вот и все, – говорит Бонфис. – Попробуйте встать… Ну что?
– Да ничего… Чувствительно…
– Но не очень?
– Не очень; сносно.
– Поберечься вам все-таки еще нужно. А теперь с Богом – вы за свое дело, я за свое.
Мы оба с лейтенантом счастливы выбраться на волю. Но перед самой палаткой видим… кого же? Его Стеллу! На трех ногах приплелась бедняжка за своим господином. Узрела его – заржала от радости.
Прослезился мой лейтенант, взял в руки ее голову, поцеловал в губы.
– Дорогая ты моя! Увы! Ни Бонфис, ни сам Ларрей не воротит тебе твоего копыта. Вы не поверите, Андре, как привязываешься к этакому животному в походе! Вот пистолет – пристрелите ее… Я сам не могу…
Но и я отказался. Сделал это за нас носильщик, что только что вместе с другим принес в лазарет тяжелораненого. Легче раненные тащились одни, волоча за собой ружье.
«А в лощине, – думаю, – иные, пожалуй, и кровью истекают!» Сдал лейтенанта на руки денщику, а сам – в лощину. Мимо ушей пули, как мухи, жужжат.
Глядь, так и есть: на самом откосе лежит маленький, безусый еще солдатик, рядом барабан; значит, барабанщик. Глаза закатились; еле уже дышит. А над ним на коленях маркитантка Флоранс.
– Помогите мне, – говорит, – налить ему в рот вина; а то уже не очнется. Тише, тише! Плечо ему раздробило.
Поднимаю я осторожно голову. А Флоранс:
– Иисус и Мария! Ай, как больно! Как больно!
И заплакала навзрыд: шальной пулей у нее из руки фляжку выбило и ноготь с большого пальца снесло.
На счастье проходили опять два носильщика с пустыми носилками. Уложили на них барабанщика. Флоранс, все еще всхлипывая, побрела за ними.
Стыдно признаться, но от вида ее окровавленного пальца у меня самого в глазах потемнело. После потоков крови в лазарете это была, так сказать, последняя капля, переполнившая чашу моего мужества.
И теперь, спустя два дня, жутко вспоминать о всех ранах и страданиях, коих тогда был свидетелем…
Одного только человека ничуть мне не жалко – самого Наполеона. Следил он за сражением издали и не получил посему ни царапинки; но душою выстрадал едва ли не больше всех… Весь век свой ведь воевал, все шло как по маслу: раз-два – и неприятель разбит, хватай только, знай, бегущих. А тут нет! Бой длится с утра до вечера, а неприятель ни с места; ни единого даже пленного.
– Ничего, ваше величество, не поделаешь, – оправдывался один генерал, – русские стоят как стена…
– Так мы ее сокрушим!
А сам, мрачный как ночь, ходит все взад и вперед, как лев в клетке.
– А свою старую гвардию он все еще бережет! – ропщут уже и раненые. – Мы, голодные, изморенные, кровь проливаем, жизнью жертвуем; а их, дармоедов, кормят и холят. Будь у него коробка, он уложил бы их туда, как оловянных солдатиков.
Когда совсем стемнело, пальба сама собой прекратилась. По подсчету французов, у них сделано было в этот день из пушек 70.000 выстрелов, а из ружей несколько миллионов. И русские все же не бежали и не просили пардону!
Сами французы понимали, что кичиться нечем. На сей раз после боя не было уже ни музыки, ни песен; даже костров не зажигали, словно из боязни, что по огням и ночью их будут обстреливать.
Наполеон же, говорят, до самой зари на постели с боку на бок без сна проворочался и бормотал про себя:
– Что за день! Что за день!
Державин о Багратионе и Кутузове. Парламентер Акинфов и король Мюрат. «Москва! Москва!» А где же депутация с ключами?
Можайск, августа 29. Чем кончится кампания – одному Богу известно; но неприятель сам весьма не в хорошем положении.
Наутро, 27-го числа, под Бородином все ожидали нового боя. Ан нет. Приходят на рассвете маршалы в Наполеонову палатку с докладом, что русские, мол, снялись с позиций и опять уходят. Как быть?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу