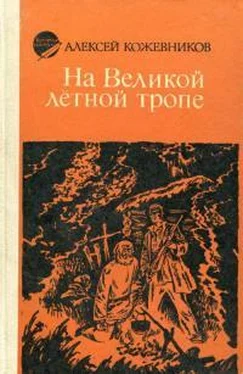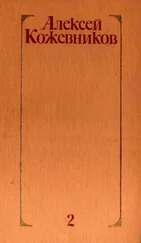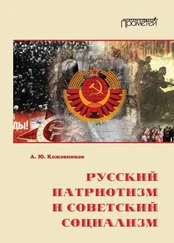Но завод и люди — слитны, как бы связаны единой судьбой: решается вопрос, быть или не быть заводу, и сразу же возникает проблема, что будет с людьми, с заводским поселком, когда остановятся доменные печи и перестанут давать чугун?
И вот — заводские ворота закрыты железными болтами и пудовыми замками. Мужское население разошлось по другим местам искать работу. Женщины, ребятишки, старики занялись огородами и сенокосом. Трудно смириться рабочему человеку с мыслью, что завод остановлен, не дымят его трубы, не грохочут станки.
Петр Милехин устраивается на соседний, тоже металлургический, завод, а вскоре к отцу приезжает Степа и становится учеником мартеновского цеха. Не сразу привыкает парень к огню и грохоту, страшит его то одно, то другое, а после работы, когда возвращаются в барак, где они живут с отцом, его преследуют пугающие впечатления завода:
«Перед глазами у Степы все еще крутились валы, летели огненные болванки, бегали измученные люди, в ушах скрежетали блоки, плакали краны и звенели листы. Не с любованием, а со злостью посмотрел он на зеленокрыший празднично-яркий город и отвернулся… На другой день Степа боязливо вошел в цех, он показался ему чужим и страшным. В лязге и скрежете железа ему опять слышались стоны. Не верилось, что жалуются и плачут в корпусах электрические краны, все думалось, что плачут люди».
В конце концов Степа становится рабочим, вливается в заводскую семью, втягивается в работу. Так начиналась династия металлургов Милехиных. Окончательно почувствовать себя причастным к рабочему классу Степану помогли комсомолец Коркин и музейный работник Кучеров. Они поведали о славных страницах истории родного Урала на экскурсии, организованной на гору Благодать. И как бы расширился, раздвинулся перед Степой видимый мир.
«Каждый вершок полит человеческой кровью, — рассказывал Коркин, — у каждой горы братская могила… Здесь сплошь железо, медь, золото, самоцветы, уголь. Рудное сердце России… Без Урала всей России — смерть…»
А потом к словам Коркина добавилась красивая легенда, которую поведал Кучеров, — о подвиге великого вогула Степана Чумпина, освободившего свой народ и русских от железной кабалы, в которой держали их купцы, чиновники, шаманы. Он объявил всем, что рудное богатство горы принадлежит простому люду. С тех пор кладовые горы Благодать стали всенародным достоянием.
В память об этом удивительном подвиге вогула-охотника на вершине был сооружен памятник — на чугунной плите стоял метровый чугунный столб с надписью:
«Вогул Степан Чумпин сожжен здесь в 1730 году».
Осмотр горы Благодать, увиденный с высоты синегривый Урал со своими заводами и рудниками, красивая легенда о великом вогуле оставили в душе Степы неизгладимое впечатление, помогли ему окончательно определить место в жизни.
«Если неграмотный охотник двести лет назад понял, — размышлял он, — куда идет жизнь, что железный путь жизни — благой путь, то как не понять этого ему — Степе Милехину, ученику мартеновского цеха?.. И родилось у парня великое удивление перед всеми Чумпиными земли, в его воображении грезился памятник для них, какого еще никому не ставили. Памятник из железа и живого пламени, и на нем зеленая трава».
Глава «Великий вогул», как ограненный драгоценный камень, вправлена автором в повесть так, что своим внутренним светом озаряет весь сюжет, действия всех героев, дело, которое они призваны творить на земле, как ее настоящие и единственные хозяева.
И читатель верит — избранный путь молодого рабочего Милехина завершится именно так, как заканчивается повесть «Парень с большим именем»:
«Никому еще не открывал он свою мечту — сделать что-нибудь большое, необыкновенное, за что Кучеров и все другие люди к трем великим Степанам: Разину, Халтурину и Чумпину прибавили бы четвертого — Степана Милехина».
Кожевниковский мотив — приобщения к заводскому труду — с новой силой продолжает звучать и в повести «Тоже доменщик». Автор как бы расширяет его звуковую гамму, ищет и находит такие ее оттенки, которые придают произведению более гармоничное выражение. Да и само начало повести невольно настраивает читателя на праздничное настроение, на тот душевный подъем, когда с уст сами по себе срываются слова песни, выражая радость, нахлынувшую на человека.
«В тот день Петрокаменский завод не работал. Стояли все цехи, не стучали молота, не гремели железные листы, и дым из трубы валил пе клубом, а тоненькой струйкой. Весь народ с утра пошел с флагами, с песнями гуртом по улицам. На площади комсомольский оркестр дул в большие медные трубы, а народ пел «Интернационал» и «Смело мы в бой пойдем за власть Советов»…
Читать дальше