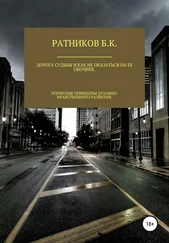Рассказывали о дне минувшем по-разному. Клавдия Тимофеевна — уверенно, привычно. Сашенька Орехова, напротив, больше спрашивала, правильно ли она сказала или поступила. Мария Авейде говорила горячо, словно продолжала речь на митинге...
А потом намечали план на завтра — кто куда опять пойдёт, с кем встретится. Андрей распределял людей таким образом, чтоб ни один завод не только в Екатеринбурге, но и во всём уезде не оставался без постоянного влияния большевиков.
Коммуна жила по неписаному уставу, складывались и традиции, зарождавшиеся ещё в дни, когда нынешние коммунары лишь приобщались к марксизму, тайно собирались в кружках, где каждый был как на ладони, где товарищество и взаимовыручка становились нормой поведения.
Они всё делали сообща — дежурили по кухне, добывали продукты, все без исключения мыли полы, стирали, чинили одежду.
В свободные минуты Свердлов обращался к небольшой, но тщательно подобранной библиотечке Клавдии Новгородцевой. Она знала и любила русскую классику, увлекалась Пушкиным и Лермонтовым. Яков тоже любил этих поэтов. Но среди книг можно было найти томики Мамина-Сибиряка, которого прежде Якову читать не доводилось, и его книги стали для Свердлова откровением.
Так вот откуда брались, чьим потом и кровью политы приваловские миллионы!
В те дни Яков часто возвращался к лирике Гейне. Свердлов и раньше любил его гражданственные стихи, но и сейчас будоражила именно лирика поэта. И ей, иноязычной, как-то в лад отвечали родные, без устали играющие по ночам гармони, и озорные частушки верх-исетских заводских ребят и девчат (тоже неизвестно, когда они спят), и образ Клавдии.
Что бы ни делал, с кем бы ни говорил, кого бы ни слушал, он глазами искал её, ловил еле приметную, сдержанную улыбку, находил повод, чтобы остаться с милой девушкой.
Никому Яков не говорил о своей любви, никому, в том числе и самой Клавдии. Но, кажется, все догадывались о его тайне.
Как хорошо, как радостно-тревожно было ему в эти дни! Горы хотелось перевернуть, совершить что-то необыкновенное. Каждый день, каждый час были заполнены до краёв, но он чувствовал: в его жизни зреет радостная перемена.
Однажды Яков сказал Клавдии:
— Пойдём, подышим чистым воздухом.
— Поздно уже, — неуверенно сказала она.
— Почему поздно? Давайте подойдём с другой меркой: рано! Именно рано. Всего лишь четвёртый час.
— Хорошо, пусть будет по-вашему.
Они оделись и вышли во двор. По-прежнему было тепло, хотя впервые падал снег.
— Видите, снег. У нас на Волге, когда первый снег, загадывают желание. Давайте и мы загадаем.
— Хорошо.
Пустынная улица бела от выпавшего снега. Тише звучала гармонь, умолкли девичьи голоса, наступал в заводском посёлке единственный час тишины. И тишину эту обволакивают снежные хлопья.
— Я загадал, Кадя... Можно, я буду тебя так называть?
Ох как крепко-крепко он держал сейчас её руку в своей руке! А эти глаза — то задумчивые, то весёлые и ласковые, то ироничные, — сколько в них оттенков!
— Кадя, милая Кадя, я хочу сказать тебе со всей серьёзностью, на какую только способен: я люблю тебя... Ты слышишь?
И он увидел на её лице улыбку — не широкую, а сдержанную.
Но как много она сказала ему!
Глава одиннадцатая.
На Верх-Исетском
Из жандармских документов:
«Случаев волнения среди заводских рабочих было несколько. Все волнения происходили потому, что рабочих подбивали на это различные последователи противоправительственных партий, преимущественно с.-д.»
«В течение 1905 года усиленно распространялась нелегальная литература, которую получали местные с.-д. от Екатеринбургского комитета РСДРП...»
Клавдия Тимофеевна подсчитала — только в октябре на Урале было свыше сорока забастовок. Это те, о которых знал Екатеринбургский комитет, так как стачечники почти всегда обращались к большевикам за советами, листовками, просили прислать пропагандистов и агитаторов.
— А ведь это значит, — говорил Андрей, — в забастовочном движении участвует более восьмидесяти тысяч человек. Армия! Вооружи такое пролетарское войско — кто устоит против него? И знаешь, Клавдия, что примечательно — не сработал царский манифест, не утихомирились рабочие, напротив, ещё больше убедились в своей силе.
О том и решил говорить Андрей во время митинга на Верх-Исетском заводе. Он часто бывал на едва ли не самом крупном предприятии Екатеринбурга, любил его калёный воздух, неумолкающий гул и издали замечал его аркообразную вывеску над воротами на сетчатой металлической основе. Чем-то напоминал ему Верх-Исетский завод Сормово, снующие по нему свистуны-паровозики. Да и люди понимали его здесь с полуслова.
Читать дальше
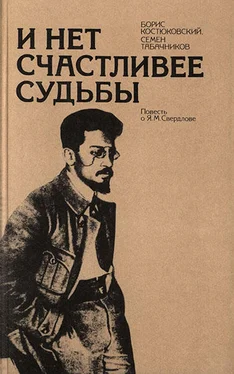




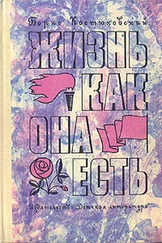





![Борис Лапин - Под счастливой звездой [повесть]](/books/395844/boris-lapin-pod-schastlivoj-zvezdoj-povest-thumb.webp)