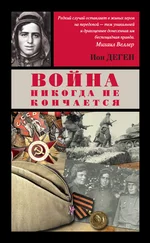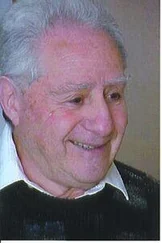Еврейская тема была единственным диссонансом в идеологическом воспитании сына. Все прочее шло официально по отлично отлаженной системе промывания мозгов. Будучи учеником 3-го класса, сын сочинил гневное письмо президенту Джонсону. Партия и правительство могли полностью рассчитывать на его единогласную поддержку. Павлик Морозов, как и положено, должен был стать кумиром и образцом. И вдруг, без моего пагубного вмешательства, сработало какое-то блокирующее устройство, и сын, еще будучи ребенком, уже сделался человеком с двойным дном, то есть обычным думающим советским человеком.
В СССР популярен злой анекдот:
Цитируют Маяковского: «Мы говорим Ленин — подразумеваем партия. Мы говорим партия — подразумеваем Ленин». И заключают: «Вот так с самого основания советской власти мы говорим одно, а подразумеваем другое».
Интересные люди бывали в нашем доме — научные работники, писатели, поэты, ученые, художники, артисты. То ли профессия делала их интересными, то ли интересность сделала их профессионалами. Важно другое. Среди нас не было явных ниспровергателей советской власти. Большинство собиравшихся были заинтересованы во благе своей страны даже при существующем строе значительно больше, скажем, секретаря ЦК партии. Именно понимание пагубности существующего состояния, тревога, мечта о благе постоянно сверлили мозг замечательных людей, собиравшихся у нас. Во время застолья уверенность, что среди нас нет стукача, что в квартире не установлена подслушивающая аппаратура, развязывала языки. Вещи приобретали настоящие названия. Событиям давалась истинная оценка, очень часто абсолютно противоположная официальной. Стукача среди нас, кажется, действительно не было. Подслушивающая аппаратура, как выяснилось, была. Не известно только, когда ее установили.
Сын слушал и впитывал в себя наши разговоры. И сталкивались в его детском мозгу диаметрально противоположные представления. И маячил перед ним легендарный образ Павлика Морозова. Но тщательно запланированный титанический труд многоопытного пропагандистского аппарата Страны Советов оказался бессильным перед логикой экспромтов перебивающих друг друга участников наших застолий.
К чести сына надо сказать, что только единственный раз в его двойном дне обнаружилось отверстие. Как-то еще до Шестидневной войны, он не сдержался и высказал своему школьному другу все, что ему известно о так называемой израильской агрессии против Иордании, о которой, брызжа отравленной слюной, сообщали средства советской пропаганды. Уже значительно позже, уверенный, что находится среди друзей, он имел неосторожность высказать мнение, отличающееся от официального. В тесной проверенной компании оказался стукач — ровесник сына. Это было болезненным, мучительным, но полезным уроком. Надо ли объяснять, как все это калечило детскую душу, деформировало характер.
Где-то в восьмом классе, потешаясь, сын прочел мне концовку своего школьного сочинения:
«…под руководством партии к сияющим высотам коммунизма, на знаменах которого начертано — мир, труд, свобода, равенство, братство».
«Ну что, посмеет учительница снизить оценку после такой фразы?» — смеялся он. Затем эта концовка стала штампом. В особо торжественных случаях в штампе появлялись вариации, например, «на алых стягах которого золотыми литерами начертаны…»
Преподавание в школе гуманитарных наук вызывало у сына презрительно-насмешливое отношение. Но на соответствующих уроках он оставался в рамках ортодоксальности, венчая свои безупречные ответы «сияющими высотами коммунизма». Однажды, придя из школы, сын высказал крайнее удивление тем, что дочь невероятно высокопоставленной особы изложила ему правильное понимание какого-то вопроса, абсолютно противоречащее официальной точке зрения. Его очень интересовало, дошла ли она до этого своим умом, или просто в их семье знают, что дважды два — четыре, но предпочитают не называть правильной цифры во имя неограниченной роскоши и власти.
Как и большинство родителей, я не замечал интеллектуальной акселерации сына. Однажды я даже несправедливо возмутился, увидев, что его мировоззрение выплеснуло через край моих представлений. Было это осенью 1969 года. В ту пору я еще с затухающими колебаниями продолжал считать, что созданная Лениным коммунистическая партия была самой прогрессивной и благородной, что ее злокачественное перерождение началось после смерти Ленина, что будь он жив, мы сейчас наслаждались бы изумительными плодами его гениального учения.
Читать дальше
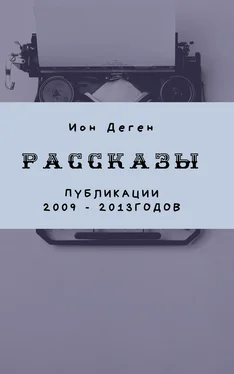

![Ион Деген - Рассказы и стихи [публикации 2013 – 2017 годов]](/books/49445/ion-degen-rasskazy-i-stihi-publikacii-2013-2017-thumb.webp)