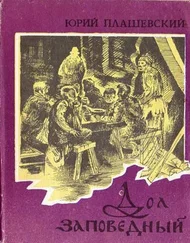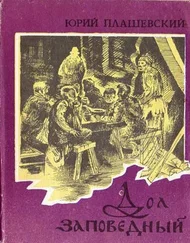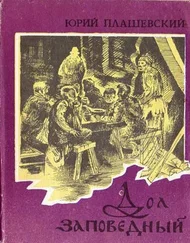Опустевший горшок кинул обратно в яму. Наклонился, заглянул: сколько их еще там, да кто хоронил? Степана Тимофеевича товарищи? Или кто еще? Ну и пусть. Пусть лежит. Может, еще когда придется, в другой раз.
Завалил яму, засыпал, затолкал камнями, щебнем, как было, встал и не оглядываясь зашагал прочь. Уже отойдя, не выдержал, обернулся: обрубком торчал каменный палец, отбрасывая длинную тень.
Солнце опять начало жечь. А ветер все дул, все дул не переставая. По морю бежали барашки.
Еле брел Михайла. В животе сосало, губы запеклись, а на сердце тоска навалилась мертвая.
Дрожали в горячем ветре скалы, море, берег. Ни души. Каждый шаг — мука. Печь огненная. Одному худо, с людьми теперь еще хуже будет. Почему так? Потому — пока наг ты и нищ, человек.
Но лишь учуют в тебе эти монеты, — пропал. Тогда не человек ты — стервятина на пути к золоту. И убьют, и зарежут, и в море кинут.
Михайла облизал губы, передохнул. Все таковы. И тут же — прыгнуло, задрожало сердце: Канбарбек! Бородка седая, реденькая, сухое лицо. Черт молчаливый. Тот бы и глазом не повел. Лишь прищурился бы да сплюнул, — в кулак бороду захватил, сказал бы коротко:
— Э, Михайла, дурак ты! Зачем тебе? Иди к нам жить…
Иди. Легко сказать. А куда? Ведь две ночи уже, считай, как увел Канбарбек аул свой… Никуда не прибиться. Ни пути, ни исхода. Старик рыбак? Николка? Им, может, тоже золото ни к чему. Один — старый, другой — малый, как теленок глупый… Может, и не польстились бы… Да что с того? Да и что со златом тем в степи сей делать? Да как жить? Да ведь поймают, уведут, в железы закуют, и — не злата ради, а — государынины слуги, за душою твоею охотнички. За то-де, скажут, что воровал ты с Емельяном Ивановичем, гулял по Волге.
А и чего гулял-то? Спроси — не ответить. Сначала — неволею, а потом будто и охотою. Тогда смутно, сейчас — еще смутнее. Не видать ничего. Раскололась душа.
Шаг за шагом. Долог путь под сумасшедшим солнцем. Куда дольше, чем ночью. И вдруг — расступилась стена отвесная. Овражек со скал к морю вниз спускается. Даже и не овражек — промоина добрая. А по ней — струйка бежит, сочатся капли прозрачные.
Подошел Михайла, со стоном опустился на колени, скинул малахай, подставил ладони. Пил долго. Мыл руки, лицо. Вот так и Емельян Иванович, ночью светлою, лунною, осеннею лицо, руки свои омывал в роднике над Волгою. Где они теперь, руки те крепкие?.. Нет ничего.
Вода лилась, журчала. Михайла отдыхал, снова принимался пить. Отяжелел. Наконец поднялся, повел взором вокруг. В глаза бросился грот — сердечком. Усмехнулся криво: как раз — для нимф пугливых, нежных. В Версали, поди, и то такого нет.
Вздохнул, затиснулся в тень, в грот, ломая причудливые края, глянул — сухо! — лег и заснул в тот же миг, будто в пропасть полетел.
Когда проснулся, в глаза ударил красный зрак солнца. Оно стояло уже низко над морем. Море уже успокоилось, и алая дорога тянулась гладкая и ровная до самого окоема.
Михайла заспешил. Есть хотелось ужасно. Пошел ходко. Скоро и мыс Карган показался. Но тут поручик стал вдруг как вкопанный и замер. Поодаль от берега судно с полосатым, красным и белым парусом покачивалось. На самом же мысу — толпа грудилась, и крик от нее шел изрядный.
Оробел поручик. Кто? Лошкаревская шмака? Так мужик болтал — через недели две только купца ждать. А если Лошкарев поране срока явился — так к чему? Может, и впрямь — с солдатами? А — за кем? За такими, как он, Михайла?
Пока не стемнело, отлеживался поручик за бугром. Мелькнуло даже: а не растаять ли ему, как татю в ночи? Не отбежать ли подальше в степь, да не схорониться ли там? Пусть сгинет корабль, — тогда уж и выйти без опаски.
Кусал он губы себе, а внутри все дрожало от страха, а пуще всего — от надежды. И чувствовал — никуда не уйдет. Тянул к себе парус сей проклятый, казался обетом, что из марева возник вдруг нежданно-негаданно.
Полночь уж, поди, наступила, когда прокрался Михайла на мыс. Толпы не было. Поодаль кибитки стояли. Человеки же разные все еще бродили, толкались, сидели у костров. В халатах, бородатые, в высоких бараньих шапках, другие же в коротких штанах, в куртках, с чалмами. Говорили непонятно, громко; хохотали, кричали.
Михайла, однако, все увертывался да оглядывался, покуда не добрался до войлочного шалаша. Там тоже горел костер, а возле кроме чернобородого сидели двое, — лицами темны, на головах платки красные, на затылках узлом стянуты.
Ели из котла уху, а к ухе было еще и горячительное. У одного гостя стоял меж колен бочонок, и он из него деревянным ковшом хмельное черпал и соседей по костру обносил.
Читать дальше