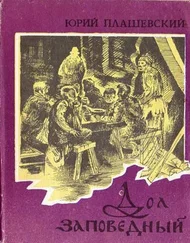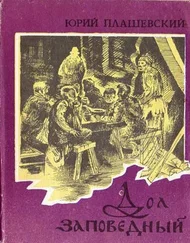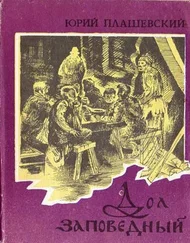Медведь был громаден, масти бурой, темной почти до черноты.
Петр Андреевич Толстой смотрел на медведя через низкие перильца из крытой галереи, что шла по дому внутри двора. Медведь, покачивая башкой, бродил в загоне, нюхал бревна, изредка глухо рычал. Подходя ближе, поворачивался боком, скреб когтями землю, искоса, вверх посматривал на Петра Андреевича и на князя Романа, что стоял рядом, посмеивался…
Петр Андреевич трогал завитки парика, покачивал головой, молча улыбался.
У князя Романа принимали его, как коммерции президента и ближнюю к царю Петру персону, с честью и весьма любезно. В его комнату, через день после приезда, внесен был ларец, крытый рыбьим зубом, с узорами, с затейливым замочком. Насыпаны доверху были в ларце червонцы.
Посмеялся беззвучно, глядя на те червонцы: благосклонность Петра Андреевича обрести было не просто, хоть от подарков он никогда не уклонялся. Как и сейчас. Но что от него здесь хотят?
Невольно возникали сомнение и настороженность: явственно ничего не просили, но улыбались со значением.
Нападала на него в эти дни, еще даже как ехал только сюда, в Москву, из Петербурга, томительная задумчивость. Будто кто вопрошал Петра Андреевича о содеянном и прожитом, представляя при том видения, картины из прошлого и предлагал о них судить.
Зачем, думалось, например, нужно было царю Петру в юности предаваться непотребству, скаканию и великому распутству?
Возникали в памяти образы свирепые, странные, лезли в ум, пугая, как встарь, машкерадные рожи, вывороченные овчины, кубки, трубки с табаком, штофы — сани с орущими людьми…
Врывались с царем в боярские хоромы, пили, ели, творили над хозяевами несусветно и пропадали, воя и стеная, будто грешные души в аду, оставляя темный ужас и отупелое недоумение. Страшно, может, более всего было оттого, что непонятно.
Петр Андреевич улыбнулся сумрачно, покачал головой, вздыхая. А потом? А потом буйство молодой крови прошло, да ума прибавилось, но власть осталась, и ею именно и были совершены дела воистину великие.
Его французского королевского величества полномочный в Петербурге посол господин Кампредон сам однажды, тонко и ожидающе улыбаясь, ему одно свое донесение в Париж давал читать, а Петр Андреевич, притворяясь равнодушным и небрежным, читал. Было в донесении с французской краткостью твердо сказано, что Россия нынешняя прежней не в пример и что это неусыпных трудов нынешнего царя результат. А пехота у него лучшая в мире.
Так, покашливал Толстой, лучшая в мире. И из кого ж? А из тех русских детин самых, которые некогда на Москве несмело посмеивались, на машкерадные рожи глядя.
Петр Андреевич шевелил пальцами, смотрел на перстни. Потом встряхивал головой, брал со стола серебряный, на тонкой ножке кубок, наливал кипрского, медленно пил. Отрезал тонкий ломтик пармезанского сыра, раздумчиво жевал, наслаждаясь благородной его остротой.
Приятнее всего, конечно, было бы думать о Лауре, хотя, мысль о ней была связана с печалью.
От медведя пошли за стол и ели всяких яств и пили вин множество. Кроме князя Романа и Петра Андреевича сидели за трапезой еще трое: худой поп из домовой князя Романа церкви, да князев сын Гаврила, в завитом парике, надушенный, молчаливый, да сотоварищ его, молодой кавалер.
Благословив пищу, поп махнул в рот чарку анисовой, промолвил:
— Ее же и государь наш, говорят, приемлет, — усмехнулся скорбно, занялся лапшой с куриными потрохами.
Гаврила и молодой кавалер пощипывали хлеб, пересмеивались между собой, кидали слова про какую-то княжну Наталью, естеством чистую-де богиню, налегали на данцигскую с пряностями водку. Кавалер улыбался, подрагивал ногой. Тонко звенела шпора.
— Вот, — кивнул князь на Гаврилу и его приятеля, обмахнулся платочком. — Вот. И горя красавцам мало. Богинь им подавай. Да еще, поди, разные мысли думают. А какие? Неведомо. Ты вот, если прямо сказать, Петр Андреевич, знаешь ли, о чем про себя чадо твое думать может?
— Это Иван-то? — Петр Андреевич прищурился, сделал глоток, отставил бокал. — А ничего он про себя думать еще не может. Не дорос. А занятие у него, как и у этих чад, одно: пей да гуляй.
Князь Роман захохотал, еще пуще замахал платочком.
— Умен, Петр Андреевич, — проговорил сквозь смех. — Самую что ни есть подноготную видишь. Ну да ты это умеешь.
Слова показались Толстому зловещими. И хоть говорил он по-прежнему спокойно и поглядывал окрест себя лениво и с благоволением, внутри у него все напряглось. Спрошено все это было, конечно, как бы ненароком, но смысл имело другой, и он пока ускользал от Петра Андреевича.
Читать дальше