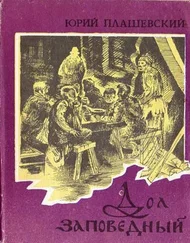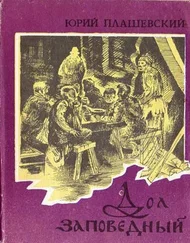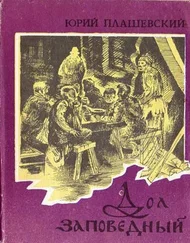Юрий Плашевский
Петербургский сон
Валиханов, сын казахского султана, воспитанник Омского кадетского корпуса и офицер русской службы, путешественник, познакомился с Достоевским в середине пятидесятых годов прошлого века, вскоре после того, как тот вышел из острога.
Некоторое время встречались они довольно часто. Тогда возникла и укрепилась между ними взаимная приязнь. Затем наступили годы разлуки. Достоевский уехал в Европейскую Россию. Валиханов путешествовал по Востоку. Увиделись они вновь лишь в начале 1860 года, когда Валиханов приехал в Петербург.
Показалось тогда Валиханову, при новой этой встрече, что изменился Федор Михайлович в общем мало, разве что стал не таким замкнутым, как прежде. В нем прибавилось уверенности, он держался несколько ровнее, зато почувствовалась Валиханову в его друге какая-то внутренняя напряженность.
Валиханов подумал, что такое впечатление должен, наверно, производить человек, решающий про себя что-то весьма важное.
— Чокан Чингисович, дорогой, — сказал Достоевский, — как хорошо, что вы здесь. Я так рад.
— Я тоже рад, Федор Михайлович…
— Нет, нет, вы подумайте, мы с вами сидим и говорим в Петербурге. Там я был скорее как бы у вас, а здесь вы вроде как у меня… Не правда ли?
— Рад за вас, Федор Михайлович, душевно, — сказал Чокан, — но испытываю при этом и некоторую грусть.
— Почему? — Достоевский ласково улыбнулся.
— Чувствую, что не бывать вам больше у меня. Ведь так? Ведь не поедете же вновь в Омск и Семипалатинск?
— Нет, не поеду, — задумчиво ответил Достоевский. — Хоть и там, конечно, жить можно. И там, может быть, и здоровее к тому ж. Так нет! Тянет нас всех сюда, на ладожский лед.
— К мысли тянет, Федор Михайлович, я прекрасно понимаю. А она сейчас здесь, хоть пусть и неудачно выбрал державный основатель место.
— Да, таков уж есть Петербург, — усмехнулся Достоевский. — Славянофилы костят его почем зря. Не любят. Ублюдком называют, прижитым-де незаконно с Западной Европой.
Чокан засмеялся:
— Каково! В злости, оказывается, и славянофил едок бывает.
— Но это все теперь переоценивать надо, — горячо заговорил Достоевский. — Передумать надо, Чокан Чингисович, переосмыслить, новое как бы освещение дать. Такова эпоха наша.
— Что переоценить, Федор Михайлович? — осторожно спросил Чокан.
— Да все! Все! — Достоевский встал, бледнея, быстро заходил по комнате. Глаза его блестели. — Разве вы не видите? Кончился петербургский период русской истории! Кончился! Ну не кончился, так сейчас кончается. А это еще важнее для нас. Нам участвовать в похоронах его, в отпевании. Петербургский период, Чокан Чингисович дорогой, — это распад, от народа отъединение. А нам к синтезу должно стремиться!
Валиханов во все глаза глядел на Достоевского, который почти выкрикнул последние слова. Достоевский подошел вплотную, мучительная улыбка искривила его губы:
— А ведь я знаю, что вы сейчас думаете, — шепотом сказал он.
Чокан молчал в замешательстве.
— Вы думаете, как это я в свой синтез III Отделение возьму. Да? И еще удивляетесь, как это, через эшафот и каторгу пройдя, я о единении мечтам предаюсь. Не удивляйтесь. Потому что единение и в самом деле до зарезу нужно! — голос его опять взлетел: — Нужно! А не будет его — так опять заговоры и топоры, и опять эшафот!
— Так на этом пути, Федор Михайлович, вам верховную-то власть никак не обойти, — мягко сказал Валиханов.
Достоевский быстро взглянул на него, отвел глаза.
— Верно. О том и речь.
Валиханов стал откланиваться.
— Разрешите навещать вас, Федор Михайлович, пока пребываю в Петербурге.
— Приходите чаще. Рад буду неизменно. Вы на меня действуете благотворно. Это я еще в Семипалатинске заметил. Иной раз думаю — это уж, простите, по секрету, — что и к брату не испытывал я того чувства, что питаю к вам.
Чокан, смущенный, наклонил голову. Вышли в переднюю.
— Детьми надо быть, детьми, — проговорил вдруг Достоевский отвечая, видно, каким-то своим мыслям. — А ему, — он поднял палец вверх, — государю, ему отцом всевидящим и терпеливым. И все тогда образуется.
— Что-то в этом, простите меня, Федор Михайлович, приниженное есть, — сказал Валиханов, натягивая перчатки. — Никак вас в роли ребенка представить не могу. И к чему? А его в роли отца, особливо, если речь пойдет о Николае, скажем, то есть Павловиче.
На лицо Достоевского легла тень.
— Да, Чокан Чингисович, — вздохнул он, — тяжелая, мрачная это, наверно, тема — Николай Павлович. Холод там, кажется, царствовал страшный. А кончилось крушением. Иногда раздумаешься, и тянет, тянет сатанинское любопытство вообразить его себе, нутро его, и повадки, и мысли, и все, все. Особливо — из позднего, севастопольского уже времени. И что, право… лет шесть прошло или больше после смерти его. А тень все висит, хоть и побледнела…
Читать дальше