Или вот лестница. Он никогда не любил спускаться по лестнице. Теперь же подолгу простаивал в нерешительности на верхней площадке. Потом медленно полз вниз. Сперва спустить одну ногу. Потом вторую поставить рядом. Бедро и бок вплотную к перилам, цепляют за балясины, вымеряют между ними расстояние.
И еще уборная. Когда вода низвергалась в унитаз – мощно ударяла из спускового отверстия, отвесно падала с боков, скромной струйкой бежала по супротивной стенке, а потом набегали еще новые течения, и начинался хаос, и слив наконец все это засасывал, – Маркусу было страшно, но не следить за убеганием линий он не мог. Еще ему не нравился слив в ванне, где железная решетка, похожая на колесо, прикрывала пустой и круглый тоннель.
Он сколько мог откладывал поход в уборную, потом медлил вымыть руки, и вытереть, и выйти, потому что снаружи была лестница.
Но он не был сумасшедшим и не всегда поддавался страхам. Если в школьную уборную заходил кто-то еще, Маркус вел себя нормально. Просто приятнее было поддаться (в одиночестве, разумеется). Он смутно сознавал, что ритуалы отвода таят собственный соблазн. Бег воды, головокружения, цифры, ритмы, буква g отводили от него императивы более страшные. В них был собственный покой – покой защищенности. Он, например, сумел отказаться от мяса, не приняв определенного решения насчет овощей, и так избегнул нараставшего императива отказаться от еды вовсе.
Но потом свет переменился и все пошло прахом.
Утром понедельника он пересекал игровые поля по дороге в школу. Он был равноудален от линий излучения, совпадавших с блекло-меловыми границами полей. Был весенний день, и холодное еще солнце лежало на новой траве и вечной зелени живых изгородей. Горели полированные изгибы рельс, и сетчатая ограда теннисной площадки остро взблескивала то тут, то там. Небо было пустое, бескровной голубизны. Далекое солнце – четкий, жидкий, жестокий диск – висело в неизвестности. Против такого солнца не помогали законы перспективы, нельзя было определить ни где оно, ни что оно есть. Сознавать его можно было, лишь глядя туда, где его не было. Не в упор, а поодаль – крадущийся, прерывистый взгляд. И было оно не золотое, а скорей белое и очень яркое. Его послеобразы, размножившись, круглой индиговой крапиной покрывали зелень полей и площадок.
А поля тянулись, ровные и зеленые, подстриженные и утоптанные. По левую руку лежал Уродский прудик, маленький, черный и обыкновенный. Вдруг свет переменился, и Маркус замер.
Существенной частью происходящего было нежелание Маркуса в него поверить. Когда он вспоминал то утро, тело его вспоминало чудовищный гнет и напряжение, происходившие от двух розных страхов, действовавших едино. Был страх претерпеть некую окончательную метаморфозу, после которой уже ничто не поможет. Был страх, что все это лишь больная фантазия, плод заблудившегося сознания. И даже в миг, менявший, возможно, всю его жизнь, бодрый внутренний голосок твердил ему, что – как с книгами, лестницами, уборными – можно отвести , можно не знать . Прошло время, и Маркус решил, что голосок ему лгал. Прошло еще, и стал вспоминать его пустоватую бодренькую тонизну как чистое утешение, знак того, что он сохранил тогда свою сущность, продолжил быть собой…
Так вот, свет переменился. Маркус замер. Тяжело идти, когда спереди, и с боков, и сзади столько происходит всего, когда свет почти ощутимо густ и ошеломляюще ярок. Он замирал по частям: сперва тело, потом сознание, и был тошный миг, когда внутренность головы шагала вперед, оставив позади мягкие, испуганные яблоки глаз и ежащуюся кожу.
Свет был деятелен. Маркус видел, как он накапливается, крепнет и бойко бежит вдоль линий, где был явлен изначально. Дикий и прямой на рельсах, он пылал, сцеплялся, скрещивался на теннисной ограде, прерывистыми потоками искр восходил от стриженых травинок и лоснистой листвы лавров. Там, где ничто не могло отразить, преломить или направить его, видно было, что свет движется сам: петлями, струйками, мощными прямыми потоками. Волнами и длинными линиями легко проницает камни, деревья, почву, Маркуса. То, что было одним из условий зрения, стало его предметом.
Свет теперь иначе определял предметы. Встречные валуны, камни, деревья, регбийные ворота он выявлял черным и очерчивал собой. Проходя сквозь них, он усугублял их непроницаемую темноту.
Свет двигался не только линейно. Он ощущался как полотнища, как вертикальные наступающие фронты, как встающие волны, бесконечные или по меньшей мере неохватные. Как стена, как многие, многие стены холодного белого пламени. Были еще другие движения, которые нельзя определить человеческими понятиями, вычленить из общего человеческого опыта. Но они – были, и Маркус понимал, что это единственное доступное ему знание. Он был скован их близостью и вездесущностью, растянут и скомкан мучительным сознанием движения, постоянно происходящего за пределами его восприятия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)

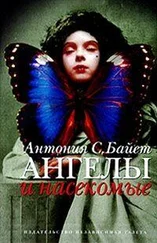
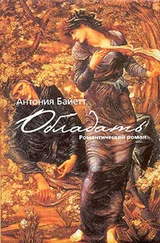

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
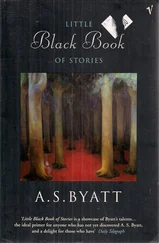
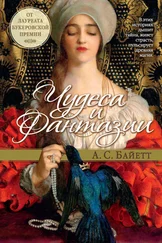

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
