Она положила руку ему на колено:
– Дэниел…
– Оставь меня.
– Дэниел.
Тогда он повернулся, тяжело обхватил ее и опустил на возмущенно скрипящую кровать. Так они лежали: она, глядя в потолок через его плечо, он – придавив ее всей своей тяжестью, приникнув лицом к ее мокрому от слез лицу на его подушке. Он лежал неподвижно. Она – тело ее ощущало совершенный покой. Он двинулся чуть и увидел ее раскрытый ворот. Медленно, бережно стал расстегивать пуговки. С испугом, восторгом, болью глядел на золотисто-бледную грудь и шею. Невидимой, неловкой рукой приподнял подол и ощутил бедро, гладкое и теплое. Содрогнулся.
– Это ничего, – пробормотала она, – это не важно. Все будет хорошо…
Дэниел передвинул гору живота и уткнулся лицом в грудь, теперь совсем открытую. Пальцами то ли робкими, то ли ленивыми – как было понять? – она тронула ему волосы. Он услышал, как она – раз, два! – быстро скинула туфли. Расстегнул еще две пуговки и пояс. В безумное мгновение скользнул рукой под грудь, туда, где ребра с биением внутри, где смутно угадан был им позвоночник. Поднял голову и примкнул свои губы к ее – теплым, и губы подались, открылись сладостно и мягко. Дэниел неловко перевалил весь свой вес на одно колено и, хмуря брови, заглянул ей в лицо. Стефани так и глядела в потолок. Ее поза приятия показалась ему позой отчаяния. Хочет сделать ему приятное. Видит: нужно дать что-то, вот и хочет дать. А для себя ничего не ждет от этого, не отзывается ни злостью, ни жаждой. Может, она всегда такая и поза эта привычная.
Он отодвинулся:
– Нет. Ты сама не знаешь, чего хочешь.
– Дэниел, постой. Я знаю и хочу. Это ничего… – почти жалобно.
– Сплошное «ничего»! А я больше хочу, чем ничего. Впрочем, это так и так неправда…
– Ах, я же не подумала! Тебе, конечно, нельзя, тебе – грех…
Она, естественно, подумала. Ведь если запрет неподдельный, нарушить его отчасти приятно даже принципиальным натурам вроде Поттеров. А может быть, им особенно.
– Мои грехи – это мое дело. Подымайся, ты уходишь.
Не двинулась с места:
– Почему?
– Потому что «из жалости» – не приму. Садись. Садись-садись.
– Не надо так.
– Сперва разберись, чего ты хочешь.
– Милый, но ведь эти вещи хладнокровно не решают…
– Еще как решают. Множество важных вещей решают именно так. И я тебе не милый.
– За что ты так со мной?
Она снова заплакала. Сидела сгорбившись на кровати, плакала, пальчиками одергивала разворошенное платье.
Он отвернулся, сказал грубо и твердо:
– Прошу тебя, уходи.
Ему невозможно было пошевелиться. Гордыня и гордость, страсть, правила – перепутались непоправимо.
Он не знал, почему гонит ее. Может, за эту покровительственную манеру. Может, потому, что кончить все сейчас значило кончить навсегда. У незавершенного своя власть, незавершенное дразнит воображение и терзает даже приятно. А может, у него просто кончились силы.
Она уже надевала туфли. Когда он не выказал намерения встать, надела шляпку и пальто.
– Ну, до свидания.
Он вздрогнул:
– Нет, постой. Давай я тебя провожу. Просто дойдем спокойно до твоего дома.
Она воспротивилась было, но все же сказала:
– Хорошо.
Маркус рассуждал так: настоящие сумасшедшие не боятся сойти с ума. И действительно, в книгах и фильмах безумцы были как-то обреченно убеждены в собственном здравии. Если так, его растущий страх сумасшествия можно было даже считать признаком нормальности. К тому же в его литературном семействе безумие связывали с неистовством, прорицаньем, поэзией, а Маркуса мучило совершенно иное.
Его мучило, что страх расползается. Что все больше вещей, которые ему страшно делать, непереносимо видеть. Они давали знать о себе мелкими электроразрядами, кратким онемением сознания. Словно на лестнице – должен был шагнуть вниз на ступеньку, а ненароком проскочил две. Правда, была еще геометрия: тщательность измерений и чувство масштаба могли отвести беду. Был страх зверя: не успеть среагировать. Ну, как бы обжечься, оттого что ослабло осязание или нюх. Но теперь ни геометрия, ни звериное в нем никуда не приводили, он был отчужден ото всего.
Каждый день что-то новое оказывалось ему трудно. Одними из первых начали наступление книги. С ними и раньше было непросто, а теперь сделалось невозможно. Строки змеями пружинили со страниц, норовя ужалить. Глаз увязал в аномалиях. Например, буква g: такое странное несоответствие рукописной и печатной формы… И уже вот книга втягивает его, он одержимо высчитывает интервалы от одной g до другой или сидит оцепенев, вперившись в какую-то одну. Если долго смотреть, любое слово покажется странным: неправильным, нездешним, а то и не словом вовсе. Теперь такими стали все слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)

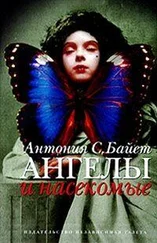
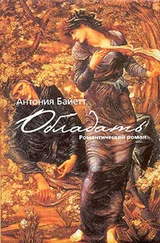

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
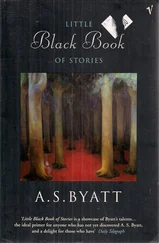
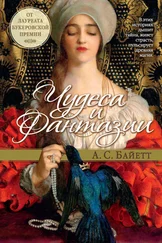

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
