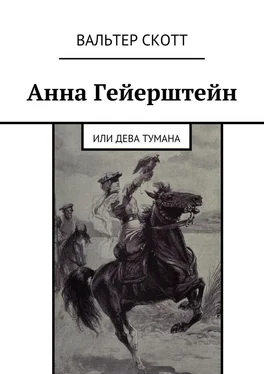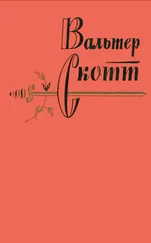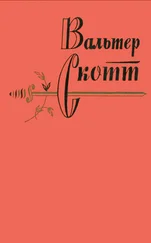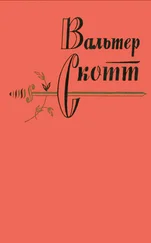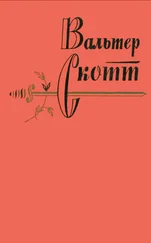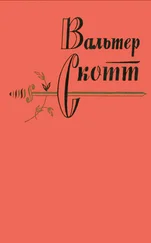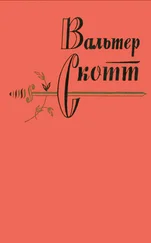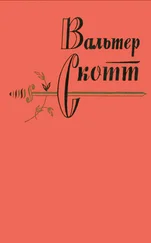– Ты не должна германским дамочкам и фладрским кумушкам позволить помышлять, что жены горцев родят не тех уж дочерей, что в дни былые, иначе нам придется повторить и Земпах, и Лаупен, убеждая императора и этого заносчивого герцога Бургундии, что наши люди имеют все тот же, пращуров, характер. А что до нашей разлуки, то я не сильно переживаю о ней. Брат мой, имперский граф, и вправду достойный звания того, непослушания не терпит, и потому послал он за тобой, чтоб всем явить исполненное право господина. Но я-то знаю: едва он только убедится, что ты по-прежнему подвластна его воле, как тотчас, ублажась, забудет о тебе. Забыть тебя? Увы, несчастное дитя! Иль думаешь, что смочь ему поможешь в его честолюбивых планах, интригах при дворе?.. Нет-нет, ты не послужишь целям графа; должна ты приготовиться, когда вернешься, молочной фермой в Гейерштейне управлять, и быть любимой твоим мужиковатым дядей…
– Была бы божья воля, так лучше мне в сей час там оказаться! – воскликнула несчастная девушка, не в силах более сдерживать свои чувства.
– То невозможно, пока мы не исполним дела порученного нам, – отвечал ландман, поняв ее по-своему. – Приляг, Аннушка, отведай угощения, вина, и от твоей слабости следа не останется, и завтрашнее утро покажется столь же радостным, как и в прежние дни, когда от сна тебя пробуждала свирель.
Но Анна, сославшись на сильную головную боль, отказалась от ужина, вина, и пожелала дяде доброй ночи. Затем девушка попросила Лизетту поужинать вместе со всеми, дабы она могла спокойно заснуть, и умоляла по возвращению не разбудить ее нечаянно. Арнольд Бидерман, поцеловав племянницу, возвратился в покои, где его товарищи, как то велит обычай, терпеливо ожидали, не смея в его отсутствие начать расправу с содержимым базельских корзин, к которому юная поросль, уменьшенная патрулями, питала едва ли не больший интерес, чем седовласцы.
Вечерняя трапеза началась по знаку самого старшего среди депутатов представителя Лесов, осенившего крестным знамением пищу. После чего путешественники принялись за дело с рвением, свидетельствующим, что пережитые ими события благотворно сказались на их аппетите.
Даже ландман, чья умеренность напоминала совершенную трезвенность, той ночью оказался более добродушен и речист, нежели обычно. Его лесной приятель, примерно следуя за ним во всем, ел, пил и безумолку говорил; в то время как других два депутата, придвинувшись к столу, в вине едва не захлебнулись. Старый англичанин, следивший за этой сценой внимательным и обеспокоенным взором, поднимал свой кубок лишь тогда, когда б то было неучтивостью. Артур покинул залу еще до начала ужина, и при этом произошло нечто такое, что обязывает нас немного вернуться во времени вспять.
Артур решил присоединиться к юношам стоявшим на часах у ворот или охраняющим замок с другой стороны, и даже имел некоторую договоренность относительно своего решения с Сигизмундом, третьим сыном ландмана. Но когда он украдкой бросил мимолетный взгляд на Анну, перед тем как осуществить свои намерения, то нашел ее лицо безмерно мрачным, что заставило его забыть обо всем, за исключением смятенных мыслей о всевозможных причинах, вызвавших такие измененья в ней. Невозмутимость гладких бровей, взора, выражающего мысль и доброту, губ, всегда созвучных взгляду и столь же прямых, как те слова, что с них слетали, в час любой готовых явить душевность и открытость лежащих на сердце, – все полностью в образе и взоре, в осанке и манерах, вмиг изменилось в ней, и сотворить могла такое лишь небывалая причина. Усталость могла согнать румянец с лица красавицы; дурнота иль приступ острой боли могли бесцветным сделать ее взгляд, нахмурить брови; но скорбь, глубокая в смятенном взоре из-под опущенных ресниц, и вздрагивающих, пугающих, невидящих очах, порою устремленных к небу, должна иметь исток совсем отличный. Никаким недугом, никакой усталостью невозможно было объяснить поведение ее губ, то трепещущих, то плотно сжатых, как будто бы она была погружена в накатывающее волнами жестокое и страшное, терзающее дух виденье, которое она усильем воли пыталась от себя отринуть. Чтобы случилась такая перемена, сердце девушки должно было впасть в глубочайшую грусть, пережив нечто невероятно дурное.
Опасно юноше взирать на красоту, что возжелала чарами его околдовать – взгляд, другой, и он у ног ее. Но куда опаснее узреть саму невинность, мгновение решает все, и вот он пасть готов пред нею на колени, моля всего о взгляде. Имеются умы, однако, готовые чрез меру сострадать, взглянув на горе юной красоты, спешат они утешить плачущую деву, переживая чувство, которое, как описал поэт, «вполне любви созвучны». Но духу романтичному и безрассудно смелому, присущему средневековью, вид непорочного и милого созданья во власти ужаса и мук без видимой причины, возможно, был еще внушительней, чем красота холодная, иль целомудренная, или скорбящая. Тогда ведь рыцарство не только в благородстве проявлялось, но и на прочих ступенях сословья, что чуть повыше простолюдья. Изумленно юный Филиппсон, моргнуть не смея, смотрел на Анну Гейерштейн, испытывая к ней такое состраданье, такую нежность, что зала шумная за ним, казалось, сгинула, исчезла со всеми находящимися в ней, оставив лишь его с предметом обожанья.
Читать дальше