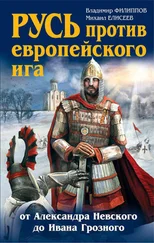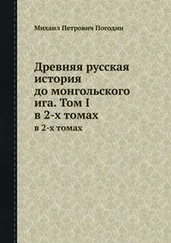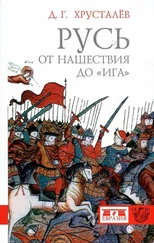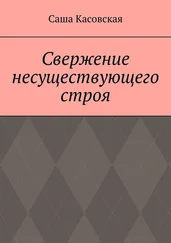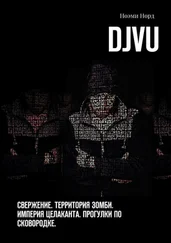— Хорошо, хорошо, — оборвал его Геронтий, ему нынче везло на говорливых, — перепишешь и свезёшь кому надо. Сможешь?
Из митрополичьих покоев Прон уже выходил в новом качестве. «Пусть это ещё не служба у самого великого князя, — думал он, — но всё повыше, чем у Андрея. Мы теперь — всея Руси!»
На княгинь он даже не оглянулся.
20 октября в Кременецкое явились мятежные братья со своим войском. Иван III решил собрать военный совет: война вступала в новый этап и следовало обсудить дальнейшие планы её ведения. Ахмат, как показало вернувшееся посольство, мало смутился неудачей на Угре и не оставил прежних намерений. Товарков передавал его слова: «Когда даст Аллах зиму и все реки станут, ино много дорог будет на Русь». Действительно, с наступлением морозов Орда сможет легко прорвать порубежные заслоны в удобном для себя месте, и держать русские рати растянутыми на многовёрстную длину теперь не имело смысла. Это понимали все, и сомнений в том, что войско должно быть собрано в кулак, ни у кого не возникало. Спорили только о двух вещах: где его собирать и на что нацеливать.
Все великокняжеские братья стояли за решительное наступление. Пришедшие из бегов Андрей Большой и Борис Волоцкий боялись, что в случае осторожных, выжидательных действий их патриотизм окажется незамеченным, к тому же обносившееся войско нуждалось в военной добыче, взять которую можно было только на чужой земле. Что касается Андрея Меньшого, то он просто застоялся, слава за сражение на Угре обошла его стороной, а находившиеся под началом воины прямо-таки горели желанием ринуться на ордынцев, и грех, считал он, не воспользоваться таким горением. По тем же причинам его поддерживали воеводы Холмский и Дорогобужский, бездельно простоявшие в ожидании литовского нападения.
Иван Молодой считал необходимым стягиваться всем к устью Угры, где продолжали находиться основные силы Орды, и здесь на обширных левобережных лугах дать главное сражение. Войско Ивана, в котором было много пешцев и пушек, не годилось для наступления на ордынские тумены, обладающие высокой подвижностью. Русские уже показали своё превосходство в оборонительном сражении, зачем же им ставить себя в менее выгодные условия?
Патрикеев стоял за то, чтобы оттянуть войско вглубь и использовать его для прикрытия подступов к Москве. В его рассуждениях был свой резон: Ахмат объявил Москву конечной целью своего похода, поэтому стянутые к ней русские рати неизбежно столкнутся с Ордой. Если же они останутся на рубеже, то Ахмат может выйти к Москве окольными путями, увлечь русских утомительным преследованием и растянуть их.
Была ещё одна группа бояр, состоящая из тех самых «злых человек сребролюбец, богатых и брюхатых», против которых ополчился Вассиан. Они считали, что нужно продолжить переговоры. Ахмат в преддверии жестокой зимы, при наличии раздетого и голодного войска будет довольствоваться малым откупом и откажется от мысли разорить русскую землю.
Иван Васильевич слушал стороны и, по обыкновению, молчал. Ему надлежало взвесить все доводы, даже те, о которых не говорилось. Сын прав: русское войско в обороне сильнее, чем в наступлении, по этой причине предложение братьев следует отвергнуть. Прав и Патрикеев, считающий недопустимым стягивать все силы на рубеже. Ещё не полностью отпала литовская угроза, и, если король вдруг решится на действия, его войско выйдет в тыл и поставит русских в невыгодное положение. Однако и оттянуться к Москве — значит отдать на разграбление ордынцам значительную часть своей земли. Дешевле выйдет откупиться, как предлагают бояре. Но где уверенность, что на следующий год Ахмат не придёт за откупом опять? Нет, не затем всё затевалось, нужно навсегда отвадить ордынского волка. Пожалуй, разумнее всего отойти немного от рубежа и встать на таком месте, чтобы перекрыть ордынцам и литовцам прямой путь к Москве. Этими соображениями он руководствовался,, когда приехал сюда, в Кременецкое, и лучшего места для главного сражения, по-видимому, не сыскать.
Иван Васильевич прекратил споры и объявил, чтобы воеводы, выставив заградительные заслоны, начали тайный отход к Кременцу.
Прон прибыл с посланием ростовского архиепископа, когда воеводы начали разъезжаться. Великокняжеские дьяки взяли послание, но самого гонца, как тот ни кричал, пугая митрополичьим гневом, к государю не допустили. Прон терпеливо ждал, что его всё же призовут для передачи какого-нибудь ответа, но призыва не было. Единственное, что удалось пролазнику, это подступиться к собиравшемуся в Москву Патрикееву. На вопрос, что передать владыке, тот насмешливо ответил:
Читать дальше
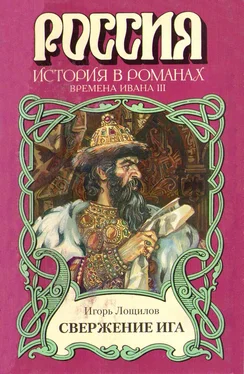
![Игорь Лощилов - Предтеча [Повесть]](/books/27567/igor-lochilov-predtecha-povest-thumb.webp)