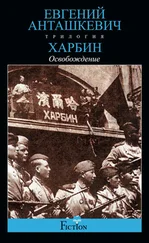Иннокентий проводил взглядом странного мужчину в гражданских брюках и австрийской военной тужурке и понял, что его он тоже видел. Он нарушил режим тихого часа, но в течение последнего месяца ему так надоело лежать, что, как только рана стала заживать, а кость срастаться, он, стараясь не наступать на левую ногу, пытался ходить и сейчас направлялся во двор покурить.
После боя у Скробова Иннокентий очнулся в Минске, там он снова попал в руки к доктору в пенсне, главному хирургу из рижского военного госпиталя, который женился на ангеле по имени Елена Павловна. Елены Павловны он не увидел, сказали, что она почему-то в Твери, вроде как беременная. Доктор, которого за его искусство перевели из Риги в Минск, сложил его кости, заковал в лубок, и Иннокентий двадцать дней пролежал без движения, неделю назад он прибыл в тыловой госпиталь в Симбирске, и после излечения его обещали отправить для поправки домой. Это было кстати, потому что Марья или уже родила, или вот-вот должна родить, хотя если взять во внимание дорогу, то он приедет, когда, скорее всего, уже всё свершится. Боль от случившегося с Марьей зажила. Пока он лежал, вовсю шумел скандал по Северному фронту по поводу какого-то тылового поручика, который просто так застрелил какого-то тылового прапорщика. Готовился суд. Кешке до этого не было дела. «Офицера, они и есть офицера, чем больше они друг дружку постреляют, тем лучше», – шептались между собою нижние чины.
В госпитальном дворе он дошёл до лавки.
На соседней сидели двое, судя по лицам и манерам – офицеры, они курили папиросы и разговаривали. Когда Иннокентий сел, офицеры стали шептаться, Кешка не прислушивался, но было нечего делать, и он всё же услышал.
– Сволочи! – зло шептал один.
– Как есть – сволочи! Это же надо такое придумать! – шептал другой, у него потухла папироса, и он полез в карман больничного халата за спичками. – Брататься с солдатами противника! – У него были заняты руки, он зажал папиросу зубами и шепелявил. – Покидать окопы и брататься… нашли братьев!
– Стрелять! Поставить пулемёты и стрелять! – отреагировал другой. – Надо стрелять таких!
Лучше бы Иннокентий этого не слышал.
«Как стрелять? Кого стрелять? – подумал он. – Нешто в нас мало стреляют? Травят газами, жгут из огнемётов? Ах вы, сволочи!» Он повернулся к офицерам и уставился. Они это увидели.
– Что вам, любезный?
– Вы с фронта?
– С какого?
Офицеры были гладкие, кожа на лицах у них была белая, Иннокентий сделал вывод, что это тыловые офицеры, на них не было повязок, то есть они не были раненые, а просто болели, а может быть, и не болели, а филонили от фронта.
– Сукины дети… – глядя на них, процедил сквозь зубы Иннокентий и кинул недокуренную цигарку под ноги. Ему захотелось уйти, уйти в палату к таким же, как он, увечным и раненым, нижним чинам, офицерам, не важно, он видел много офицеров, чего стоил полковник Вяземский, ротмистр Дрок, поручик Кудринский, у них были серые лица, почти черные, дубленные ветрами, снегом и солнцем, закостеневшие от преодоления страха, лица, как в зеркале самой матушки-смерти. Он вспомнил отца Иллариона, офицера в юности, а сейчас офицера-попа…
Он выставил перед собою костыли, чтобы встать, но оба с соседней лавки уже были перед ним, и Кешка, глядя на них снизу вверх, окончательно понял, они не больные и не раненые.
– Что ты сказал, подлец? – Один толкнул в лоб наклонившегося к костылям Кешку, тот плюхнулся на лавку, а другой ногой выбил костыли, и те с грохотом обрушились на сухую пыльную землю.
– Вот такие, как он, и предают родину…
– И ходят брататься…
– Ладно, идёмте, надо бы на него рапорт написать, чтобы знал, с кем и как надо разговаривать…
Они повернулись и пошли к крыльцу, когда один из них подбил костыли, то задел раненую ногу Кешки, и у того от боли всё поплыло в глазах.
* * *
Утром Малка сдала дежурство и побежала.
Она всю ночь думала о том, что ей предстоит, это было мучительно, ей предстояло принять одно из двух решений в создавшемся положении: ехать или не ехать.
Она не нашла ответа, ответ они могли найти только вдвоём, всё-таки она не только срослась с Барухом, но и сроднилась.
Сама не заметила, а сроднилась.
Он подрабатывал в нескольких лавках грузчиком. Она обежала все и не нашла.
«Наверное, их собрали… или они собираются…»
Мысли в голове метались, и она побежала в лагерь военнопленных. Она буквально наткнулась на Баруха, не доходя лагеря, он шёл туда, в руках у него была крынка с молоком, плата в лавке молочника, и тут она вспомнила про Серафиму, которая дома была одна, молоко напомнило ей о том, что Серафима вот-вот должна родить. Она спохватилась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу