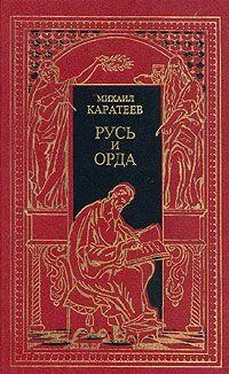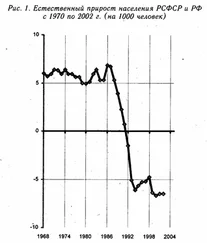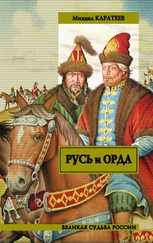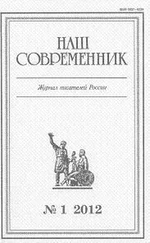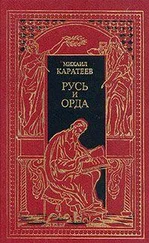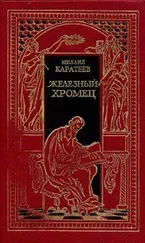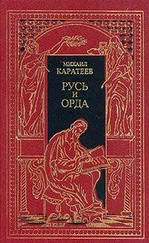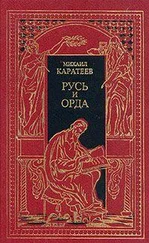– Дело известное,– ответил хозяин, кряжистый рыжебородый мужик лет сорока.– Али не знаешь, что все эти угодья князем покойным Иваном Даниловичем отписаны московскому Данилову монастырю, выстроенному его праведным родителем? Допрежь того на Подоле нашем было, кажись, дворов семь. Ну, а с той поры народ сюды, знамо дело, и потек.
– Почто так? – удивился Карач-мурза.
– Да ведь, не в обиду тебе будет сказано, боярин, на церковных-то землях смерду жить не в пример вольготнее, нежели на боярских, а иному и на общинных. Ему оброк платить куды сподручнее, чем робить на барщину, которая рано ли, поздно ли доводит его до кабалы. Ну, а боярину как раз барщина-то и нужна. Что же до вольных смердов,– на тех барщины хотя и нет, но надобно платить подати и число да отбывать князю повинности, а их ноне немало. Глянь, как города-то скрозь ставятся! На них изводят прорву леса и камня, и от всякой общины князь требует людей, лошадей и телеги, чтобы тот камень да лес добывать и свозить куды надобно. Хоша каждый идет в повинность не так чтобы надолго, да иной раз мужику от того чистый зарез: тут подошло, к примеру, самое горячее в хозяйстве время, надобно свое робить, а ты поезжай по наряду либо дай своего коня, а себе хоть свинью запрягай!
*Этот монастырь, просуществовавший до наших дней, был основан в XIII в. первым Московским князем Даниилом Александровичем, причисленным Церковью к лику святых.
**Оброк – уплата за пользование помещичьей землей, продуктами своего труда или деньгами.
***Барщина – уплата за то же самое своим трудом.
****Числом называлась дань, собираемая для татарского хана.
– Ну, а на монастырских землях ничего такого нету. По цареву указу ни числа, ни податей церковные людишки не платят, також и князь их в работу не берет. А барщиной нас святые отцы не донимают,– в кои-то веки стребуется подновить в обители тын, загатить реку либо еще что справить,– так ведь это выйдет какая седмица, много две в году, а на боярина надо робить три дня в седмицу! Платим мы монастырю оброк в натуре, глядя по урожаю, да к праздникам великим посылаем братии кто пару курей, кто гуся, овечку либо свинью, а кто победнее – тот рыбки, а то и лукошко ягод. Ну, а так – робим сами на себя и живем как бы по своей воле. И потому всякий смерд, кому в ином месте затужило, норовит перейти на церковную землю, покуда не влетел в кабалу, ибо знает – опосля будет поздно: беглых братия до себя не принимает.
***
К этому следует добавить, что земельные владения многих русских монастырей того времени были весьма обширны, что дает некоторым историкам основание не совсем справедливо обвинять древнерусское духовенство в чрезмерном любостяжании. Нет сомнения в том, что монастырская братия и многие отцы Церкви нашей не отказывались от земельных приобретений, далеко превышавших нужды того или иного монастыря, и умели извлекать из этого огромного хозяйства немалую пользу. Но, во-первых, история почти не дает нам примеров того, чтобы кто-либо из русских иерархов использовал эти источники для личного обогащения, окружения себя роскошью или ведения расточительной и праздной жизни,– каковыми примерами изобилует история западной хрстианской Церкви. Во-вторых, для увеличения своих угодий монастырям едва ли нужно было прибегать к захватническим действиям, которые если и имели место, то лишь как редкое исключение. Земельные богатства Церкви росли у нас почти исключительно за счет так называемых «вкладов по душе»: у русских князей и бояр существовал обычай завещать особо чтимым или просто ближайшим монастырям некоторую часть своих владений, на вечное поминовение души. И эти вклады зачастую бывали весьма обширны.
*Царем на Руси называли тогда золотоордынского хана.
В таких случаях обычно завещались леса и пустоши, которые монастырь быстро заселял пришлыми крестьянами, охотно селившимися на церковных землях в силу причин, указанных выше. Но нередко жертвовалась и «устроенная земля»,– уже обрабатываемая и населенная. Из подобных фактов те исследователи, которые любят отыскивать в нашем прошлом одно лишь плохое, снова делают ошибочное заключение, что это крестьянское население отдавалось монастырю в рабство или в собственность, вместе с землей. Подобные случаи имели место значительно позже,– когда крестьянство на Руси было уже повсеместно и прочно закрепощено. Но в описываемое время, если крестьянин не был связан с владельцем земли кабальным договором, то есть, попросту говоря, долговыми обязательствами,– он был волен уйти с подаренной монастырю земли и устроиться в другом месте. Это было нетрудно: свободных земель было еще много, а людей всюду не хватало. Если же крестьянин был кабальным и кабальная запись на него передавалась монастырю,– он должен был отработать долг, как отрабатывал бы его прежнему хозяину. И при тех льготах, которыми пользовались все «церковные люди», выйти из монастырской кабалы бывало несравненно легче, чем из боярской.
Читать дальше