— Но чтобы в моем доме его не было, — решительно заявила Елена. — Я об этом и слышать не желаю.
— Не думаю, чтобы он захотел прийти, — сказала Минервина. — Уверена, он не жалует высший свет. Наверное, устроится в маленькой комнатке у кого-нибудь из родственных душ. Ты знаешь, они целыми неделями обходятся без еды и сна.
Однако, когда великий мудрец наконец прибыл, он не побрезговал гостеприимством второго в Трире по богатству и значению дома.
— Ты ведь пойдешь его послушать? — не раз спрашивала Минервина. Елену, при всей привычной размеренности ее жизни и видимой самоуверенности, всегда мучило подозрение, что где-то есть еще что-то важное, чего нельзя упустить, и поэтому в конце концов она согласилась.
Когда этот день наступил, Елена, как того требовало ее высокое положение, явилась последней. Хозяйка дома встретила ее на лестнице, провела в зал, заполненный дамами — не только любительницами мистики, но и всем цветом высшего общества Трира, — и усадила в кресло, поставленное, по ее распоряжению, в сторонке, у стены. Приезжий мудрец был уже на месте. Поклонившись императрице и хозяйке — и обнаружив при этом хорошее знакомство с манерами высшего света, — он заговорил.
Елена начала с того, что стала возиться со своими шалями: в зале с центральным отоплением было очень жарко, и в конце концов она, сняв шерстяную шаль, накинула вместо нее легкую, из азиатского шелка. При этом не обошлось без некоторой суеты рабынь вокруг ее кресла. Потом она огляделась, любезно кивнула нескольким знакомым, сложила руки на коленях и принялась слушать.
Ученый, пожилой и толстый, с бородой мудреца и в простой одежде, держался, как опытный профессиональный философ. Он внимательно оглядел слушателей, ища среди них сочувствующих, и на мгновение встретился взглядом с Еленой. Как раз в этот момент он произносил ее имя, и ей показалось, что в голосе его прозвучало что-то знакомое.
— София, — говорил он, — та, что в образе Астарты рассталась с земной плотью в Тире, а в образе Елены была спутницей Симона, Высоко Стоящего, та многоликая, что была последней и самой темной из тридцати Эонов Света и, опрометчиво предавшись любви, стала матерью семи земных властителей...
Его мелодичный голос вызвал у Елены воспоминание о давнем, почти забытом прошлом — о продуваемой ветром комнате на верхнем этаже замка.
«Так и есть, это он, — подумала Елена. — Ошибки быть не может — Марсий, и со всеми своими прежними фокусами».
Дамы вокруг нее внимали, как зачарованные, каждая по-своему. Некоторые принесли дощечки для письма, но мало кто делал записи. Елена заметила, что одна из ее соседок два раза написала слово «Демиург» и два раза его стерла. Те, кто еще пытался следить за ходом мыслей Марсия, напряженно слушали; другие, уносимые потоком туманного красноречия и даже не пытавшиеся ему сопротивляться, блаженствовали: они получили то, за чем пришли. Елена окинула взглядом ряды сосредоточенных лиц, потом посмотрела на Минервину, сидевшую за столом рядом с мудрецом, — та после каждой его фразы кивала, как будто и сама так думала.
— Все вещи двойственны, — сказал Марсий, и Минервина снова кивнула. — Сначала приходят заблуждения, а потом вмешивается Гносис. Досифей понял, что он не есть Высоко Стоящий, признал свое заблуждение и, познав это, слился духом с Двадцатью Девятью и с Еленой, Тридцатой полусущностью («Ну, это не про меня», — подумала Елена), которая есть мать и в то же время невеста изначального Адама...
Минервина серьезно кивнула, отчего у нее заметно выпятился второй подбородок, и у Елены вдруг возникло совершенно неприличное и не подобающее случаю, но непреодолимое побуждение — нечто когда-то ей свойственное, но давно подавленное, несовместимое с ее положением, с браком и материнством, с заботами обширного хозяйства, с масляными жомами и сбором миндаля, с ее тридцатилетним жизненным опытом, с озадаченными лицами дам в этом душном, жарком зале; нечто неотделимое от приморских туманов, конюшен и соленых прядей юных рыжих волос. Елена попыталась бороться с этим побуждением — она заерзала на стуле, прикусила палец, натянула на лицо край шали, стала тереть ногу об ногу, лихорадочно старалась отвлечься, припомнив что-нибудь неприятное или грустное — вифинийский акцент Минервины или печальную судьбу покинутой Дидоны, — но все было напрасно. Не выдержав, она прыснула, и из-за того, что так старалась сдержаться, — особенно громко.
Ее веселья никто не разделил. Матрона с дощечкой для письма, чьи глубокомысленные размышления оказались прерваны какими-то непонятными сдавленными звуками, взглянула на Елену, увидела, что та закрыла лицо шалью, а плечи у нее трясутся, и, решив, что это рыдания и что она пропустила нечто патетическое, изобразила на лице горестное выражение, чтобы не быть заподозренной в недостаточной тонкости чувств.
Читать дальше
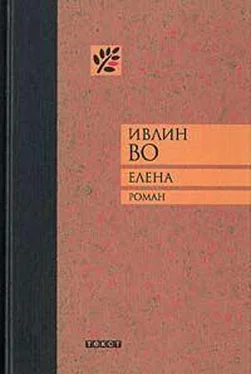

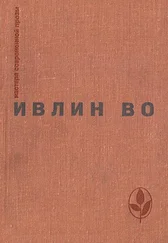
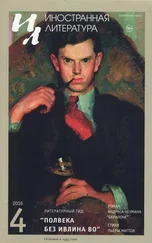


![Ивлин Хоуп - Дочь богини [СИ]](/books/413204/ivlin-houp-doch-bogini-si-thumb.webp)
