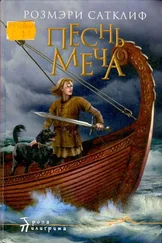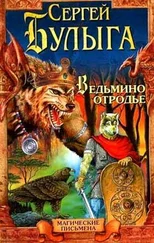Восемь веков назад почти все растения считались целебными, полезными для того или иного случая, и аптекарский огород был настоящим цветником, прекрасным, конечно же, хотя цветы взращивались там не красоты ради. Высокая с крапчатым зевом наперстянка укрывалась в тени старой бузины. Барвинок и герань Роберта — для очищения ран — делили клумбу с белым снотворным маком, привезенным в Англию из дальних земель первыми крестоносцами. От головной боли имелись розмарин, скабиоза, разные сорта герани; там рос чеснок, украшенный белыми, в звездочках, соцветиями, рос чистотел — лечить глаза, — ромашка — наладить сон — и белый или лиловый окопник, помогающий срастаться костям при переломах.
Ловел с радостью трудился там — вдали от суеты, царившей на кухне и во внешнем дворе. Ловел успевал осваивать и чтение. Жизнь теперь потекла намного спокойнее, разве что огорчали редкие происшествия, как например, когда он принес и посадил тысячелистник, который, бабушка его говорила, лечил раны даже лучше бадьяна, а брат Джон объявил, что тысячелистник трава дьявольская и что ему ясно, кем была бабка Довела. Брат Джон вытащил из земли корень и швырнул, угодив мальчику в голову. В ту ночь Ловелу опять снился давно уже не мучивший его кошмар: надвигались лица, которые были одни глаза и раскрытые рты, у висков свистели камни…
Но потом они с братом Джоном поладили. И Ловел продолжал трудиться на аптекарском огороде и по громадной книге в библиотеке изучать травы, за которыми он ухаживал. Вскоре маленький пухленький брат Питер и даже сам лекарь брат Юстас уже звали его в аптекарскую — исполнять обязанности, которые, без навыка, отнимали много времени, но не могли быть доверены лицу несведующему: он измельчал корневища, толк в ступке листья и стебли, следил, когда закипят странные смеси, и в нужный момент снимал их с огня. Такой работы всегда хватало, ведь брат Юстас лечил не только монахов и слуг обители, но всю округу.
И исподволь — Ловел не очень-то осознавал это, — но в нем пробуждались прежние знания и прежнее умение, воспринятые от бабушки: нежность рук, способных выпестовать зеленый росток, чтобы он зацвел и отплатил сторицей, необычайная сила рук, способных врачевать больное тело.
Заканчивался первый год его старательных трудов на аптекарском огороде, когда у Ловела появился свой пациент.
Однажды он выпалывал сорняки на огороде — один, потому что брат Джон с монахами пошел к вечерне. До него, за работой, слабо доносилось преодолевавшее мощные стены церкви их песнопение. С внешнего двора послышался стук лошадиных копыт и скрип колес: привезли первую телегу сена на сеновал за конюшнями — майского покоса траву, самую душистую…самый лучший фураж. Солнечный, в удлиняющихся тенях покой раннего летнего вечера нарушил заливистый лай, и Ловел улыбнулся, бережно окапывая кустик розмарина: опять Храбрец за кошкой с конюшни погнался. Но почти сразу же лай сменился отчаянным визгом, раздались крики, поднялась суматоха. Ловел уронил мотыгу и, прихрамывая, поспешил к маленькой скрытой за выступающей опорой церкви калитке в высокой стене. Распахнул калитку, выбежал на передний двор.
Посреди двора он увидел телегу с сеном: лошадь в упряжи артачилась, подавая назад. Рядом с телегой окруженный группкой людей Храбрец взвизгивал и взвизгивал от боли, недоумения и пробовал встать на трех лапах.
Из конюшни прибежал Хардинг, а люди говорили все разом:
— Прямо под колеса кинулся!
— Я всегда знал — носится он за этой кошкой, ох, на беду!
Перекрывавший другие, слышался голос Жеана:
— Сломана лапа. Стукнуть его камнем по голове и кончено.
Ловел вглядывался в их лица, в лицо Хардинга, особенно, — в это лицо. Он закричал:
— Нет! Подождите!
И мгновенно оказался в середине группы, пробившись к Храбрецу, теперь затихшему, присевшему на трех лапах с горестно поникшей головой и жутко, неестественно вывернутой правой передней лапой.
— Подержать бы его, Хардинг, — обратился он к конюху и неуклюже опустился на здоровое колено, вытянул руку, погладил пса.
— Ну-ну, дружок. Дай, Храбрец, я посмотрю.
Старый вояка, не проронив ни слова, присел, прижал пса к ногам, а Ловел поглаживая его большую поникшую голову, потом шею, потом рука Ловела осторожно спустилась к поврежденной лапе. А столпившиеся вокруг люди переглядывались, усмехались, пожимали плечами и удивленно, с интересом рассматривали Горбуна, который один из монастырской братии вдруг подчинил себе ход вещей и будто обрел право приказывать им.
Читать дальше

![Сакс Ромер - Ведьмино отродье [английский и русский параллельные тексты]](/books/33237/saks-romer-vedmino-otrode-anglijskij-i-russkij-thumb.webp)