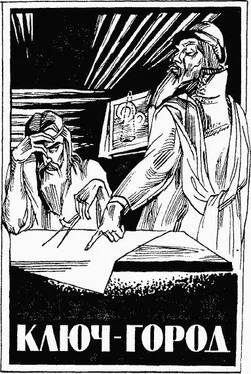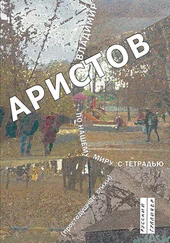Мужик скрипел зубами, тяжко стонал, ругал ляхов псами. Синели обнаженные жилы, дымилась на снегу под мужиком кровь, умирал он страшно и тяжело и, умирая, не переставал грозить ляхам. Михайло едва удержался, чтобы не броситься на гайдуков, но он был один, гайдуков же двадцать, да и вовремя вспомнил о грамоте.
Чем ближе к Москве, тем больше стало попадаться выгоревших деревень. Среди пожарищ белели человеческие кости. По дорогам волки и одичалые псы терзали человеческие трупы. Когда Михайло спрашивал изредка встречавшегося мужика, кто спалил деревни и от кого разорение, отвечали одним словом:
— Литва!
Под Москвой все чаще стали попадаться русские ратные люди. От них Михайло узнал, что войско Прокофия Ляпунова стоит у Симонова. До Москвы он добрался под вечер. Проехал мимо обоза, обставленного со всех сторон гуляй-городом. Между возами сновали казаки, дети боярские и ратные мужики. Некоторые, выбрав место посуше, играли в зернь. Другие, обнявшись, пели. Нет-нет — мелькнет между ратными веселая женка, подмигнет наведенными бровями, соблазняя на грех. Михайло покачал головой: «Ну и зелье, нигде от них не уберечься».
В монастырь к Ляпунову Лисицу не пустили. Из избы вышел сын боярский в простой овчине, сказал, что воевода совещается с боярами. Велел явиться завтра поутру. Михайле пришлось искать ночлега. Зашлепал наугад по изрытой дороге. То и дело он натыкался на увязшие в грязи сани и телеги.
Многие места теперь Михайло не узнавал. Там, где были замоскворецкие слободы, тянулись пожарища. Сиротливо торчали почернелые трубы. Ноги тонули в толстом слое грязного пепла.
Навстречу Лисице брел человек — роста малого, колпак надвинут на широкий лоб. Когда поровнялись, человек остановился, раскинул руки, добрые глаза блеснули радостно:
— Михайло Лисица!
Михайло узнал в лобастом Никифора Молибогу, старого подмастера. Не видел его с того времени, как шесть лет назад вместе сговаривали черных людей встать на расстригу Димитрашку. Тогда взяли Молибогу в тюрьму вместе с мастером Конем. Услышал потом Михайло о Никифоре, когда дьяк читал на площади расстригин указ, кого чем Димитрашка пожаловал: кого тюрьмой, кого ссылкой. Никифору Молибоге и Косте Лекарю велено было урезать языки до корня и сослать в дальние города. Увидев теперь Молибогу, окликавшего его, от удивления Михайло сразу не мог вымолвить слова. «Эк орет, это без языка-то».
Никифор засыпал Лисицу словами. Разобрал Михайло, что Молибога сильно шепелявит. Узнав, что явился Михайло из Смоленска и ищет, где бы переночевать, Молибога повел его через пожарище. Пришли к избе, красовавшейся среди пожарища свежеотесанными боками. Поднимаясь на крылечко, Молибога весело кивнул:
— Старые хоромы ляхи сожгли, так я новые, на зло ворогам, скорым делом поставил. Русский человек что пень отрослив. В старые годы жгли Русь и татары, и литва, да сжечь не могли, а теперь и подавно не сожгут.
Сели за стол на лавку. В костянолицей старухе, выползшей из прируба и принявшейся собирать на стол, Михайло с трудом узнал Молибогову хозяйку. Про себя вздохнул. «Вон как годы людей сушат». Молибога между тем рассказывал:
— Велел мне ляцкий недоверок Димитрашка язык до корня вырезать, да не так вышло. Заплечный мастер, добрая душа, усовестился, пожалел, только конец отхватил. Немым не остался, когда ж говорю, во рту шипит. В Каргополе в тюрьме на цепи после сидел. А как сел на престол царь Василий, велел он тотчас же всех тюремных сидельцев, каких расстрига в тюрьму вкинул, из тюрьмы выпустить и деньгами пожаловать. Мастеру Федору Савельичу не довелось видеть, как московские люди расстригин прах по ветру рассеяли. — Вздохнул, смахнул выкатившуюся слезу, стал расспрашивать о смоленских делах, потом рассказывал Михайле о том, что творилось в Москве. — Литву бояре в Москву пустили еще осенью. Черные мужики впускать пана Жолкевского и жолнеров не хотели. Михайло Салтыков, да Шереметьев, да дьяк Грамотин едва народ сговорили не противиться. Стрельцов, какие в Москве были, чтобы не чинили помехи, бояре услали в Новгород. Как засели ляхи в Кремле да Белом городе, житья от них не стало московским людям. Казну государеву пан Жолкевский своим литовским людям роздал. А после Жолкевского сел в Кремле пан Гонсевский. От пана Гонсевского еще большие пошли московским людям утеснения. Про литву худого слова не молви, а молвил — волокут литовские люди в приказ и смертным боем и всякими муками мучают. На крестопоклонной неделе прошел слух, что ратные люди из разных городов идут к Москве панов воевать. В чистый вторник поднялись на литву посадские мужики. Улицы возами, бревнами да всем, что под руку попало, загородили. На Никитке литвы да немцев побили без числа. Выбили бы литву посадские люди из Москвы вон, да боярин Михайло Салтыков надоумил панов избы в Белом городе зажечь. Сам, пес, первый свои хоромы подпалил. Огонь на московских людей ветром погнало, тем только паны и спаслись. А в середу немцы с литвой Замоскворечье огнем выжгли. Три дня Москва-матушка горела. Людей литва побила и погорело без числа.
Читать дальше