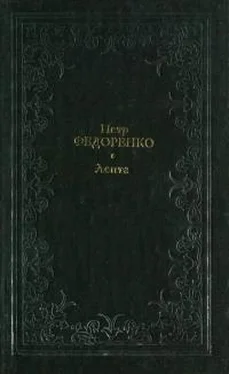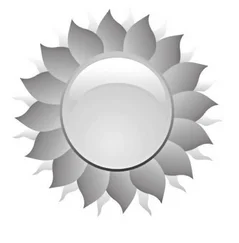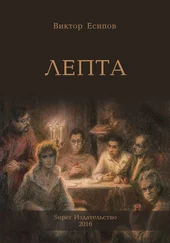Он выпил вина, и хотя не опьянел, но почувствовал себя проще, заговорил в полный голос:
— Орест Адамович, как странно, сколько художников, столько и направлений. А ведь чего проще, если ты владеешь кистью…
— А не владеешь, не лезь в калашный ряд, — перебил его Карл Брюллов. Александр поперхнулся от неожиданности. Разве он дал повод Брюллову для такой резкости? Окружающие Брюллова — Бруни, Марков — хохотнули обидно. Впрочем, может, не над ним смеялись. Карл Брюллов в крохотном альбомчике рисовал карикатуру на Корнелиуса.
— Если есть талант, — продолжал Брюллов, — он дорогу себе пробьет и другим путь укажет. Так-то.
— Ортодокс! — сказал ласково Кипренский, положив руку на плечо Александру. — Привыкайте, Саша, к нраву Карла Павловича. В сущности, он добрый…
Александр стерпел обиду, отвернулся.
Рядом с Корнелиусом появился высокий светловолосый худой человек в темном, заношенном сюртуке с глухим воротом. Ему было, как и Корнелиусу, лет сорок. Он жарко говорил что-то, улыбался, то обнимал, то отталкивал от себя низенького Корнелиуса. Кипренский помог снова:
— Это Фридрих Овербек {32} 32 Овербек Иоганн Фридрих (1789—1869) — немецкий живописец.
— главная надежда назарейцев. Он сейчас пишет «Иоанна Крестителя». Немцы не нахвалятся… Он говорит, слушайте: — «Нас всех должно объединять одно — служение высокому искусству. Художник только тот, кто молится кистью, как молились великие, как молится наш любезный Петер Корнелиус. Он везет в Берлин картон, может быть, главной своей картины «Страшный суд». Эта картина могла родиться только в Риме…»
В голосе Овербека, в его голубых глазах была некая притягательная сила, хотелось встать и подойти к нему. Александр попросил Ореста Адамовича:
— Представьте меня Овербеку.
— Что вы, Саша. Здесь все попросту, сейчас, по крайней мере. Подойдите и назовитесь.
— А что?.. И подойду.
Александр, перешагивая через чьи-то ноги, протискиваясь меж стульев, отодвигая гирлянды цветов, отчего они качались, подошел к Овербеку… и растерялся. Ему нужно было произнести фразу: «Вы говорили прекрасно. Я разделяю ваши мысли и чувства», — но сказать это ему было еще нелегко, пока он мог сложить только такое:
— Lei bello homo… [3] Вы прекрасный человек ( ит. ).
Овербек понял его затруднение, улыбнулся. Улыбка еще больше расположила Александра. Объяснились по-французски. Овербек заговорил медленно:
— Вы копируете Микеланджело… Видел копию Адама. Превосходная работа. Какое счастье быть в начале пути! Тут залог всей жизни.
Александр не запомнил, как это произошло, — праздник еще продолжался, а они с Овербеком покинули зал и шли к монастырю святого Исидора — на виа Лигурия, — в котором находилась мастерская Овербека.
Вот, оказывается, где он поместился со своими назарейцами. Быстрым взглядом Александр отметил запущенность монастыря, который по какой-то причине оставили монахи, мрачные коридоры, переходы, сводчатые узкие окна, тяжелые двери… Тут и пахнет по-особому: застоявшимся пыльным воздухом, мятой, богородской травой. И в то же время — что это? В монастырской трапезной Александр увидел трех юношей в черном, сидящих за мольбертами, они рисовали драпировки, наброшенные на манекены. Юноши поклонились Овербеку низко, по-монашески. Так же и он, а за ним и Александр поклонились юным художникам.
Несколько шагов по гулкому коридору, звук щеколды, скрип открывающейся двери — и Александр оказался в монашеской келье, превращенной Овербеком в студию. Вот у него как устроено… Напротив окон помещен на подставках большой холст — картина, над которой работает художник, — «Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне». Сюжет этот Александра еще в Академии занимал. Тогда батюшка отговорил его от многофигурной композиции.
Рассматривая картину, Александр вспомнил недавнее посещение дворца прусского консула в Риме, одна из фресок во дворце — «Братья продают Иосифа в рабство» — была исполнена тою же рукой, что и этот «Иоанн» — условно, без полутонов. Потом он оглядел келью: распятие в углу, у окна, ширма в другом углу, за которой видна постель Овербека…
Картина его не задела, не взволновал Иоанн с косматой шкурой на плечах. Но поразили и обрадовали монастырь, убогая келья, сам художник — голубоглазый, беззащитный, добрый. Вот как надо служить искусству — отрешившись от суеты мирской, от пустых разговоров, от мыслей о приобретении богатства, чинов и званий…
Читать дальше