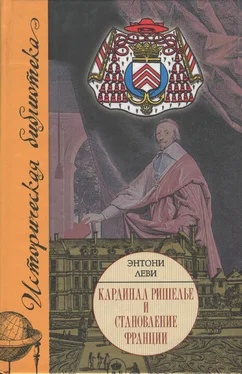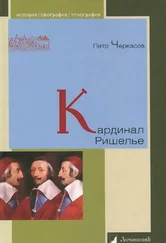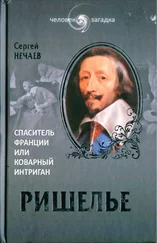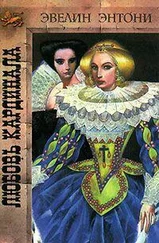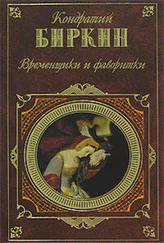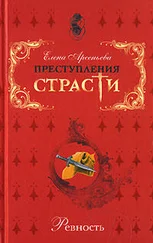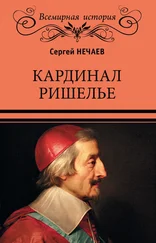По словам мадам де Мотвиль, королева, защищая себя, сказала, что от этой перемены она бы ничего не выиграла. Король вызвал ее на заседание совета 10 сентября, для того чтобы она ответила на обвинения в причастности к заговору.
Определенным суверенитетом в мирских делах обладали и итальянские города-государства, и немецкие города и провинции. Термин «суверенитет» допускает внутри себя значительные градации как по происхождению власти, так и по степени ее законности. В конечном итоге его можно измерить только реальными полномочиями исполнительной власти.
Ныне это площадь Вогезов, и в ее центре по-прежнему стоит конная статуя Людовика XIII.
Авенель публикует известное письмо Ришелье своему духовнику от 29 марта 1636 г. (Lettres. Ed. Avenel. Vol. V. P. 435–436), отмечая места, где тот собственной рукой правил написанный под его диктовку вариант; в нем Ришелье спрашивает, при каких обстоятельствах дуэли все-таки можно оправдать. Его тон свидетельствует о том, что он не безоговорочно отвергал практику решения споров посредством дуэлей, в то же время понимая, что и в 1636 г. их количество по-прежнему требует сокращения.
Эти пятеро были мать Бутвиля, принцесса Конде и герцогини де Монморанси, д’Ангулем и де Вандом. Нет причин подвергать сомнению душевные страдания Ришелье и его желание посоветовать королю проявить снисхождение, о которых пишется в «Политическом завещании» (Testament politique. Ed. Louis André. Paris, 1947. P. 102–103), но все это не перевесило оснований для отказа в помиловании. Эти казни, как пояснял он королю, вполне пригодное, но не безупречное средство положить конец дуэлям; снисхождение же, несомненно, приведет к окончательной потере уважения к королевским эдиктам. Людовик XIII заболел от эмоционального напряжения, борясь с собственным желанием проявить милосердие. 24 июня Ришелье написал письма соболезнования герцогу Ангулемскому, мужу Шарлотты де Монморанси, и самому Анри де Монморанси: «Я не могу выразить, насколько опечален король, вынужденный прибегнуть к этой чрезвычайной, на его взгляд, мере, но вследствие столь частого повторения сознательно совершаемых поступков, бросающих прямой вызов его авторитету, для истребления этого зла, так глубоко укоренившегося в его королевстве, он считает себя обязанным перед своей совестью, перед Богом и перед людьми позволить правосудию беспрепятственно осуществиться в этом деле…» (Lettres. Ed. Avenel. Vol. II. Letter CCCCIXXIX. P. 480). Об этом эпизоде см. в: Louis Battifol. Richelieu et le roi Louis XIII. Paris, 1934. P. 159–168.
Ришелье презирал Бекингема, быстро распознав нарциссизм за его красивой внешностью и хорошо видя его метания между здравым смыслом и близкой к сумасшествию манией величия. Он также понимал, что столь влиятельный, но ненадежный авантюрист опасен.
См.: J.H. Elliot. Richelieu and Olivares. Cambridge, 1984. P. 88–90; David Parker. La Rochelle and the French Monarchy. London, 1980.
Вопрос о командовании армиями и флотами важен здесь, в первую очередь, потому, что еще раз иллюстрирует борьбу за признание социальных амбиций путем присвоения военных званий и дает представление о том, как возмущен был брат короля, трижды лишенный важного генеральского поста, когда Людовик брал командование на себя. Получение им синекуры в этом случае — лишь незначительное событие в бурной истории его отношений с королем.
О рыцарских жестах во время кампании на острове Ре см.: G.R.R. Treasure. Cardinal Richelieu and the Development of Absolutism. London, 1972. P. 102; Victor-L. Tapié France in the Age of Louis XIII and Richelieu. Tr. D. McN. Mackie. London, 1974. P. 181–185. Ришелье под диктовку Людовика XIII написал Туара послание, в котором король призывал его и вверенные ему войска «выдержать… все испытания, лишения и неудобства, которые доблестные мужи, преданные службе [королю], могут и должны снести».
Рассуждения о том, что случилось бы, потерпи он провал на этом этапе, не совсем бесплодны, поскольку они позволяют дать более точную оценку положению Ришелье в 1628 г. Неудача со взятием Ла-Рошели означала бы для него позор и либо изгнание в его по-прежнему небольшую сеньорию в Ришелье, либо — чтобы избежать унижения — какое-нибудь полученное от курии назначение в Риме. Трудно представить, чтобы папа — кто бы им ни был — смог теперь использовать его выдающиеся дипломатические способности в посольской деятельности при европейских дворах, поскольку большинство монархов не доверяли ему или ненавидели его. Кроме того, Ришелье больше не был епископом в территориальном (в отличие от духовного) смысле.
Читать дальше