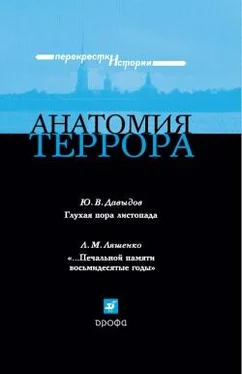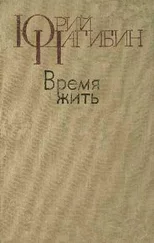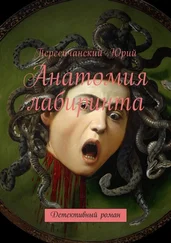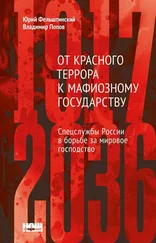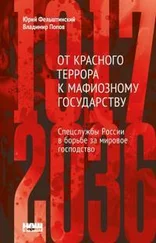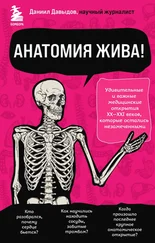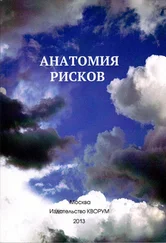Да, русские руки часто слишком уж легко поднимались и теперь поднимаются на многое, на что не следовало...» [39]
Тем не менее вердикт «Виновны» вряд ли стоит выносить революционерам слишком уверенно и безапелляционно. На страницах романа, посвященных Давыдовым народникам, мы не найдем ни улюлюканья, ни анафемы в их адрес. А ведь Юрий Владимирович отнюдь не был всепрощенцем, особенно в том, что касалось нравственных проблем и начал. Вместе с тем не был он и сторонником простых решений, подсказанных логикой момента или разгоряченным воображением публициста. Народники, безусловно, не являлись ни обиженными властью недоучками, ни безнравственными монстрами. Так же как и их оппонентов не стоит считать тупоголовыми ретроградами или бездушными чинушами. Любимые российские вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?» – вечны, то есть ежеминутны, однако в определенные моменты истории они обостряются настолько, что растерянность перед первым из них заставляет с излишней безапелляционностью отвечать на второй.
Итак, безвинность, вина, степень ее, а значит, и мера ответственности за происшедшее... Вряд ли в каком-нибудь самом трагическом историческом или литературном событии, при соблюдении объективного подхода к нему, можно отыскать только одного виновного. В конце концов и Яго всего лишь умело сыграл на откровенно несимпатичных особенностях характера Отелло. Вот и в случае с народничеством 1870-х годов не стоит перекладывать всю ответственность за случившееся на революционеров. Никто не заставлял правительство действовать против молодых энтузиастов всеобщего равенства жандармским кулаком, отупляющей безнадежностью тюремных казематов и уж тем более эшафотом виселиц. Как сторона более сильная и, безусловно, более опытная, власть могла и должна была найти иные методы убеждения революционеров и противодействия им.
Народники не родились террористами, их сделали таковыми ненормальные, упрямо агрессивные условия российской политической жизни (вернее, ее полное отсутствие). Правила, законы развития этой жизни устанавливало отнюдь не общество, их диктовала власть. Именно она не сумела да и не пыталась направить оппозицию (либералов и революционеров) в русло правильного политического существования. Именно она постепенно превратила мирных пропагандистов в убежденных экстремистов. Внутренняя же логика развития народнического движения, о которой речь шла ранее, лишь довершила дело. Даже террор землевольцев и народовольцев – самое горькое и тяжелое обвинение против них – оборачивается обвинением также и против власти.
Он возник как естественное средство защиты организаций, загнанных правительством в подполье, от вполне вероятных предательств, провокаций, проникновения агентов полиции и т. п. Террор продолжался как крайняя форма протеста общества против беспардонного и безнаказанного нарушения чиновниками высоких рангов законов Российской империи (речь шла об условиях содержания политических заключенных в тюрьмах и местах каторги и ссылки). А как еще народники могли реагировать на издевательства над своими арестованными товарищами, на унижение их человеческого достоинства, если легальные средства отстаивания прав заключенных были для общества заказаны самим правительством?
Террор сделался грозным и почти неуправляемым оружием, когда приобрел характер мести судьям, прокурорам, чинам полиции за варварски жестокие приговоры арестованным социалистам. Колесо правительственных репрессий конца 1870-х годов оказалось не катком, подминающим и искореняющим крамолу, а червячной передачей, раскручивающей колесо «красного», народнического террора. Обратите внимание, на всех упомянутых этапах развития революционного экстремизма правительство сохраняло рычаги воздействия на него, могло, проявив определенную гибкость и терпение, снять проблему с повестки дня или смягчить ее остроту, но не пожелало сделать этого. Когда же террор стал в глазах социалистов единственным средством переустройства общества, сигналом к народной революции, то поле бескровного взаимодействия власти и общества съежилось, как легендарная шагреневая кожа. И ведь все это той или другой сторонами оправдывалось самыми высокими целями. Цели же, вырвавшись за границы разумного, начали в полной мере диктовать и оправдывать средства: око за око, казнь за казнь, провокация за провокацию.
Провокационным методам действия власти и революционеров в «Глухой поре листопада» отведено особое место. И это не случайно. Обман, шантаж, мистификация, даже некоторые проявления террора – с большей или меньшей натяжкой – могут быть списаны на болезнь роста общества или неловкие действия власти, приспосабливавшейся к неясным по последствиям, но внятным изменениям в пореформенной российской жизни. Но провокация... О! Это тонкое и высокое искусство подлости, которое нельзя объяснить неведением последствий или случайностью применения. Провокаторы точно знают, зачем они действуют и что последует за тем или иным их шагом. Поэтому провокации, в силу своей абсолютной гнусности, нуждаются не в оправданиях, а лишь в подробных, в назидание потомкам, описаниях. Начнем, пожалуй, с высших сфер, поскольку в России именно они чаще всего определяли различные стороны жизни ее населения, а значит, и характер его поведения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу