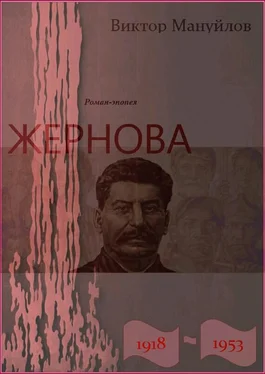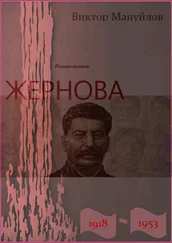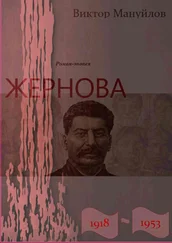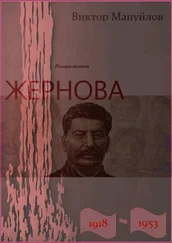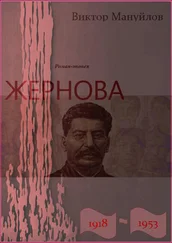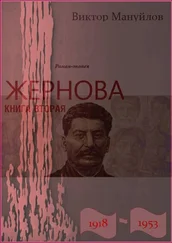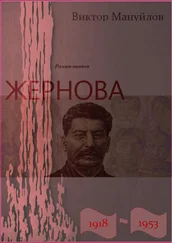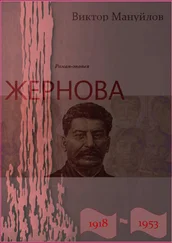— Я читал ваши репортажи. Как же, как же. Действительно, именно такой вывод напрашивается. Признаться, до меня только сейчас дошло, как до верблюда. И что же? — спросил он, заглядывая в глаза Алексею Петровичу. — Вас за это не притягивали?
— Представьте себе — нет. Но резали и резали основательно, — ответил Алексей Петрович с победной улыбкой.
— Я, честно говоря, не заметил. Хотя теперь, задним числом, вижу, что прорехи кое-какие имелись. Слава аллаху, что все для вас, Алексей Петрович, хорошо закончилось. Следовательно, пока живы, надобно жить, — заключил Толстой и повел рукой с зажатой в ней трубкой, точно отодвигая что-то в сторону. — Давайте-ка, Алексей Петрович, выпьем за то, чтобы… А-а! — решительно тряхнул головой. — Давайте просто напьемся — и пошли они к такой матери! Все вместе! — Погрозил пальцем: — Но об этом — ни гу-гу.
Домой Алексей Петрович вернулся заполночь. Хотя выпили они с Толстым порядочно, но он так и не опьянел, лишь тело налилось свинцом да мир сузился до какой-то едва приметной щели, из которой дышало смрадом, как из общественного туалета на глухом полустанке.
Вышла Маша, остановилась в дверях, молча смотрела, как он раздевается. Оглянулся: по лицу ее текли слезы.
Алексей Петрович, увидев эти слезы, почувствовал себя такой скотиной, что тут же бухнулся на колени перед женою, обхватил ее ноги руками, давясь беззвучными рыданиями. С этими неожиданно прорвавшимися рыданиями к нему возвращалась жизнь, он был уверен, что все пойдет по-новому… вернее — по старому: он будет писать, он будет работать, он… Никто не может сказать, сколько ему отпущено на этом свете, поэтому нельзя расслабляться, нельзя зря прожигать время. И с Татьяной Валентиновной он больше не станет встречаться, потому что… потому что это нехорошо. Да и время отнимает, и нервы, и женщина она совсем не интересная. А исключительно ради тела… Опять же, Маша, дети… Да и годы, годы….
И он, действительно, от чего-то освободился за эти дни — от чего-то давящего, принижающего. На другой же день вновь засел за свой новый роман, лишь иногда появляясь в Правлении писательской организации, но ничем там особенно не занимаясь. Безделье пока сходило ему с рук. Скорее всего оттого, что никто толком не знал, что именно надо делать в новых условиях, хотя призывы к усердной и активной деятельности звучали со всех сторон.
Появляясь в Доме Герцена, в ресторан Алексей Петрович даже и не заглядывал, былой потребности напиться не чувствовал, но знал, что если заглянет, все повторится, и уж тогда-то ему точно из этого омута не выбраться.
Зато через две недели ноги сами принесли его в знакомый переулок. Он потоптался возле обшарпанных парадных дверей, затем решительно вошел в них, стал подниматься по лестнице.
Татьяна Валентиновна встретила его на лестничной площадке, зябко кутаясь в шерстяной платок, молча взяла за руку, повела к своей квартире по темному коридору. Едва закрылась за ними дверь и щелкнула задвижка, как она, расстегнув его пальто, прижалась к его груди, дрожа как в ознобе, лепеча о том, как она его ждала, как увидела в окне, как обрадовалась, и то прижималась мокрым лицом к его щеке, то, жадно целуя его задеревеневшие с мороза губы и холодный подбородок, с надеждой заглядывала в его глаза, и Алексей Петрович, если бы вспомнил свои недавние зароки насчет Татьяны Валентиновны, удивился бы тому, как ему могло придти в голову отказаться от такой прелести и такого подарка судьбы в его довольно скучной и однообразной жизни.
Сталин уперся обеими руками в подлокотники кресла, тяжело поднялся и некоторое время стоял, не двигаясь с места, как бы привыкая к новому положению. Затем несмело и неловко сделал первый шаг, второй, обошел свой стол и медленно двинулся вдоль стола для заседаний в сторону двери. Он всего пару дней как оправился от гриппа, все еще чувствовал недомогание и сковывающую тяжесть во всем теле, болели ноги, ныла к непогоде левая рука.
Лаврентий Павлович Берия, лишь недавно назначенный наркомом внутренних дел вместо Николая Ивановича Ежова, искоса следил за Сталиным, оставаясь сидеть за столом. Он отметил и болезненную неуверенность вождя, и его желание скрыть это за намеренной медлительностью движений.
«В этом году ему стукнет шестьдесят, — подумал Берия, — а седины в волосах почти не заметно. Лет десять протянет еще, если не больше: грузины — они живучие».
Блики света от настольной лампы в пенсне Берии скрадывали выражение его глаз, и Сталин, считавший, что именно по глазам он может определить истинные мысли и настроение своего собеседника, решил сменить позицию, чтобы, с одной стороны, видеть глаза Берии, с другой, не показывать ему своих.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу