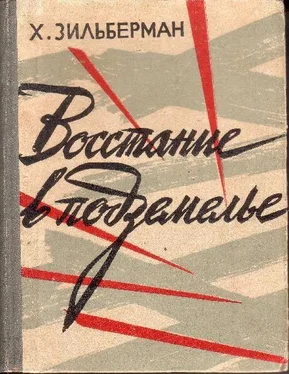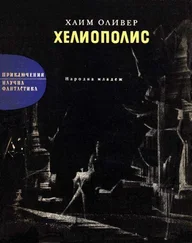Мы крепко пожали друг другу руки.
Потом я догадался, что в такую минуту неловко сидеть молча, и стал рассказывать о себе, о своих приключениях в детстве, о том, как меня выставили из монастыря.
Вася трясся от беззвучного смеха. В глазах его появился совсем юношеский блеск, и, может быть, поэтому заметнее стала густая паутина морщин под глазами, глубокие борозды, прорезавшие лоб, преждевременная седина, покрывшая суровым инеем его голову, виски и даже брови.
– Моё детство было совсем иным… – сказал он тихо.
Он вспоминал о своём небольшом городке, о родителях, о школе, о своей учительнице, имя которой произносил душевно, мягко, со счастливой и благодарной улыбкой. Людмила Александровна – так звали его учительницу. Я никогда не забуду этого имени, потому что всегда буду помнить, как произносил его он, Вася, – Алексей Чашин.
Конечно, мы с ним были разные люди, родились и росли мы в различных, совершенно чуждых друг другу мирах. Меня с рождения окружала безысходная печаль, всю жизнь я только и мечтал о счастье, но мне так и не довелось испытать его тепла. Вася рос среди весёлых и крепких людей, и счастье всегда было с ним, какой бы путь он ни избрал. Но вот пришла война, и судьбы наши скрестились. Ему было тяжелей, потому что он потерял много больше, чем я, но ему в то же время было и легче, потому что он видел много дальше всех нас.
Теперь же, когда все взоры обитателей нашей камеры были обращены к нему, он больше слушал, чем говорил, молча одобрял страстные речи товарищей по камере и думал… Думал. Он не обольщался. Он понимал, что враги никогда не пойдут на мировую, и сердцем чувствовал приближение страшной развязки.
Меж тем камера постепенно затихала. Наступал голод. О нём ещё не говорили, но он уже завладел нами. Во время голода лучше всего лежать. Мы так и делали.
Но не все лежали на своих местах. Али всё ёще был на нижних нарах и беседовал о чём-то с Иваном. Цой сидел окруженный людьми. Они молчали, но расходиться им, видимо, не хотелось. Было хорошо молчать всем вместе.
Это я ещё видел. А потом погас свет. По нарам пронесся вздох, и наступила тишина. Камера стала могилой.
Темнота бывает разная. Вечером или ночью, если не зажечь в комнате свет, – темно. В лесу ночью тоже темно, это совсем другая темнота, непривычная, тяжелая. И всё же, если поднять голову, можно увидеть небо, может быть, звёзды, и страх отступит. Мы знали, что над нашими головами нет неба, нет звёзд, что темнота окружает нас со всех сторон, что уйти от неё невозможно. И вместе с темнотой пришел страх, безотчетный и потому необъятный, сковывающий сердце и мысли, тот самый страх, который, по выражению Гомера, «хватает за волосы». Чтобы преодолеть его, нужны были силы. А сил уже почти не осталось…
С тех пор как мы переступили порог подземной тюрьмы, никто из нас никогда не оставался в темноте. И на работе, и во время сна, и в коридоре, которым мы ходили в мастерскую и возвращались в камеру, – везде и всегда на нас были направлены мощные лучи прожекторов. Постепенно мы привыкли к ним, точно так же, как слепой привыкает к своей палке. Наши нервы, в первое время взвинченные и больные от постоянно раздражавшего их света, отупели и угомонились. Мы научились спать, погружаясь в бездну света, искусственные лучи заменили нам милое, тёплое солнце.
И вот нас лишили и этого. Наступил мрак.
…Считайте, прошу пана, что на этом месте мои рассказ обрывается. Из могилы ещё никто ничего не сообщал, и я, при всём своём желании, не могу быть исключением. Мрак и голод – больше, чем смерть! Наши мучители, видимо, это хорошо знали.
Не могу сказать, сколько времени длилось это могильное существование, но мы жили… Я делю эту жизнь на периоды, хоть и не мог бы тогда сказать, как долго продолжался каждый период: несколько минут или несколько суток. Вначале, в первый период, ошеломлённые внезапно наступившей темнотой, мы лежали молча, неподвижно. Ни единого признака жизни. Потом оцепенение начало медленно проходить, страх стал отступать. Это уже второй период. Он продолжался долго, очень долго. Люди зашевелились, застонали, стали переговариваться, сначала настороженно, как бы проверяя, не лишились ли они дара речи. Казалось, что каждое громко сказанное слово поглощается темнотой и тут же исчезает, чтобы отозваться гулким эхом где-то в недрах подземелья.
Потом все притаились, прислушиваясь к тому, что делается по ту сторону двери, в коридоре. Кто-то начал было говорить, но со всех сторон на него зашикали, будто он мешал услышать что-то очень важное.
Читать дальше