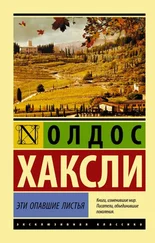Федя вспомнил кухню, босые тонкие ножки, согнутый стан, грязную тряпку, милое смущение за обедом, корзину фруктов и подумал: "вот она какая!.."
Когда выносили знамена — по туркестанскому обычаю, заведенному Скоблевым, их приветствовали громовым "ура".
На площади стояла толпа таранчинцев и киргизов. Стражники оттесняли их, очищая площадь парада. Генерал на белом арабском жеребце объезжал фронт. Он провозгласил: — Ура "Державному вождю Российской армии". Федя думал: "По всей России теперь служат молебны и идут церковные парады. И также молится теперь Купонский в Московском полку, и бывший училищный знаменщик Комаровский в Варшаве в Волынском полку, и Ценин в Иркутской казачьей сотне, и Агте в Камень-Рыболове на границе Маньчжурии."
Сознание единомыслия, одинаковости жизни и стремлений показалось Феде знаменательным, сильным и важным.
Он стоял на фланге роты, опустив шашку, и чувствовал себя маленькой-маленькой, одной из миллиона, волной океана — и в то же время сильным, могучим и несокрушимым, как весь океан…
Когда проходили церемониальным маршем и третья рота плавно отделилась от его, топтавшейся под музыку, четвертой, он увидел в образовавшийся просвет генерала на белом коне, маленькую группу офицеров и дам и сразу распознал под зонтиком высокую светлую Наташу, с бантом полковых цветов в русых волосах.
Федя выпрямился…
— Четвертая рро-т-та…
И по-училищному, с шиком, коротко бросил, уловив правую ногу:
— Прямо!
Джаркент спал тем особенным крепким сном, каким спят только глухие среднеазиатские города, затерявшиеся в пустыне. Ни одна собака не лаяла в таранчинском квартале, ни одна тень не отделялась от домов и не кралась вдоль серых заборов мимо по-зимнему тихо журчащих арыков. Серебряные горы, снегом до самой подошвы покрытые, сторожили покой пустыни. В иней закованные, белыми привидениями, стояли деревья садов и аллей. Ни один звук не прорезал пустыню, и, как изваяния, лежал, подогнув колени, у таможни караван двугорбых верблюдов. Закутавшись в меха и одеяла, дремали между ними погонщики. Костер тлел посередине улицы. Красное сияние потухших дров тоже, казалось, дремало.
Ни одно окно не светилось в туземном квартале, нигде не мерцала лампадка, не видно было жарко растопленной печи и пламенеющего свода, готового принять хлеба. Под ворохами разноцветного тряпья, кутаясь от холода зимы, лежали таранчи и дунгане, и поставленные с вечера уголья в бронзовых хибачах покрылись серым пеплом.
Там, где стояли русские войска, желтыми огнями светились ряды окон низких глинобитных казарм. Подле ворот топтались парные дневальные с винтовками под мышкой и руками, засунутыми в карманы. В казачьих сотнях в сумраке возились люди на коновязях. В тихом сиянии звездной ночи шла уборка. В одной из сотен седлали… На охоту…
У маленького домика вдовы капитанши Тузовой, где «стоял» Федя, на улице дожидался сибирский казак с двумя поседланными лошадьми. За занавешенным окном тускло светилось пламя свечи. Федя собирался с казаками на охоту.
Он вышел в серо-синем пальто с блестящими пуговицами и погонами, в ремне с двумя охотничьими патронташами, с ружьем, подарком матери.
Он вдохнул свежесть морозного утра, тонкий аромат заиндевелых сучьев, неуловимый запах утреннего мороза и земли, еще не покрытой снегом и пахнущей прелым листом, и сон сбежал с его румяного лица. Негромко, точно боясь разбудить уснувшие сады, Федя спросил казака: — Я не опаздываю, Солдатов?
— Никак нет. Я поехал — еще седлать не зачинали, — ответил казак.
— Как думаешь, кабаны будут?
— Кто же их знает. Не иначе, как должны быть.
— Я в левом пулю положил, разрывную.
— Хорошее дело.
— А тигр не выйдет?
— Тигра в облаву не пойдет.
— На прошлой неделе, таранчи говорили, подле Зайцевского корову задрал ночью.
— Он теперь иде!.. Его следить надо. Он, поди, к самому Балхашу подался. Зимою там держится, на плавнях.
— Ах! Вот тигра бы хорошо.
— Потерпите, ваше благородие. Уже его высокоблагородие, наверно, не устоит, осенью поедет куда-нибудь. Не то на Иссык-Куле завоюете, а то к Памирам подадитесь; там зверем дюжа богато.
Просторным торопливым шагом поехали по спящей улице. Лошади мягко ступали по пыльной дороге, простучали копыта на мосту через арык. Федя свернул на главную улицу, где у пивоваренного завода был назначен сборный пункт.
Охота имела еще особый интерес для Феди. Она сближала его с Николаем Федоровичем, давая предлоги забегать к нему за каким-нибудь пустяком: за пыжами, за дробью, спросить совета, сказать: на одну минуту — и остаться до ночи. Слушать рассказы Николая Федоровича об охотах, о Пржевальском, Роборовском и Козлове.
Читать дальше