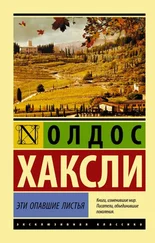Николай Федорович повел Федю на веранду, где уже проворные руки Наташи успели накрыть красной с кремовыми цветами скатертью стол. Стогниев принес кипящий самовар. От выпитой за обедом водки у Феди шумело в голове. Он слушал Николая Федоровича, и в то же время одним ухом прислушивался к звонкому смеху и голосу, раздававшемуся по саду.
— Как хорошо вы сделали, — говорил Николай Федорович, — что не погнушались нашей окраиной. Отличное дело, право… Читаю я намедни в «Инвалиде» приказ о производстве, думаю, кто да кто в наши палестины. Гляжу: из старших портупей-юнкеров. А!.. вот это, думаю, молодчик! Это настоящий офицер! Не побоялся… Тут, Федор Михайлович, настоящая служба… Тут не как либо что! Кругом киргиз, тарачинец, дунганин, отличное дело, Китай рядом… Он замирен-то замирен, а как стали сюда поселенца гнать, нет-нет и заволнуется. Тут распускаться а ни-ни! Не можно… Ну а солдат тут особенный, слухи ходят — в стрелковые батальоны вас будут переименовывать… А я бы… Того… не делал этого. Что плохого, что линейные. Линия-то это не фунт изюма, не бык начихал… Это гроза. У нас, вы знаете, как поется-то? Наташа! Принеси-тка, голубка, гитару.
Наташа птичкой выпорхнула из гущизны кустов, пронеслась по саду, где-то хлопнула дверью и принесла отцу старую, видавшую виды гитару.
Николай Федорович перебрал струны и запел:
Утром рано весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый!
Я на пушке сижу,
Сам на крепость гляжу
Сквозь прозрачные волны тумана…
— Это, Федор Михайлыч, вам не Тигренок и не Стрелочек, отличное дело. Изволите видеть — степь, пустыня бескрайняя, и в ней маленький городок, валы и стены, потому что киргиз-то не замирен, сарты волнуются, туркмен не покорился белому царю. В городке, вот как мы: батальон, полубатарея и две сотни казаков… До соседей, до помощи-то, — сотни верст, и телеграф только солнечный — гелиограф…
Николай Федорович взял несколько аккордов и, повысив голос, продолжал:
Дым пронесся волной,
Звук раздался стрелой,
А по крепости гул прокатился.
— Чувствуете, Федор Михайлыч, тревога… Киргизская, несметная орда подступает. А в городке-то женщины, дети, жены, дочери, вот этакие же, как моя Наталочка-дочурка… Надо оборонить и их, и линию государеву удержать, не податься. А то позор, суд, за сдачу-то городка: полевой суд, отличное дело, и расстрел!..
Бурный грянул аккорд, трелью рассыпался по струнам, а пальцы по деке пробили барабанную тревогу.
Как сибирский буран
Прилетел атаман,
А за ним есаулы лихие.
Сам на сером коне,
Грудь горит в серебре,
По бокам пистолеты двойные!
— Песня-то, Федор Михайлыч, не поэтом каким придумана, а там и сложена, теми самыми, кто:
Живо шашки на ремень,
И папахи набекрень,
И в поход нам идти собираться.
— А дома-то плачут. Наспех хлеба заворачивают, отличное дело, корпию щиплют, медицина-то была простая. Ранен, на три четверти по здешним местам, отличное дело, не выжил.
Я бы рад на войну,
Жаль покинуть жену,
С голубыми, как небо, очами!
— Петербург, Россия этого не знают. А мы знали… Да и теперь, аллах ведает, что творится на душе у косоглазых. Их здесь в уезде шестьдесят тысяч, отличное дело, и все конные, а нас — кот наплакал… Батальон, четыре пушки да две сотни казаков… И подумайте, Федор Михайлович, вот этакими же силами пол-Азии завоевали.
— Вы были участником этих походов?
— Сам-то мало. Завоевание Кульджи с Куропаткиным немного захватил. С ним и город наш планировали, оттого и ренклод мой Куропаткинским назван. Сам Алексей Николаевич, капитаном, посадил его. Недавно наезжал сюда: я его уже плодами угащивал… Отец мой — он вахмистром был, все четыре креста имел, отличное дело, полный бант. Любимец Скобелева.
Хлопнула калитка. По дорожке между роз, направляясь к дому, прошел трубочист-таранчинец, с черной непокрытой головой, с веревкой, метлой и гирей за спиной и лестницею на плече.
Наташа, разливавшая чай, подняла маленькие руки, по-детски всплеснула ими и шаловливо пропела:
Трубочист, трубочист! Милый, добрый трубочист!
— Примета, папа, хорошая. Трубочист — это счастье… В институте мы ужасно в это верили… Было темно. Звезды многооким узором высыпали на небо, в городе было тихо. Где-то на окраине лаяли таранчинские собаки. Стогниев на паре маленьких киргизских лошадей в тачанке на дрожинах по мягким улицам Джаркента вез Федю домой. На коленях у Феди был сверток: булки с мясом и маслом, сдобные булки и сухари — изготовление Наташи, всунутые ею ему: к завтрашнему чаю.
Читать дальше