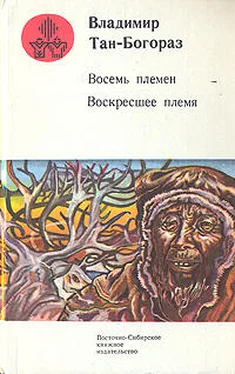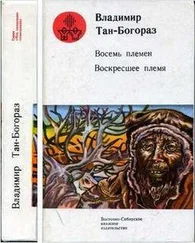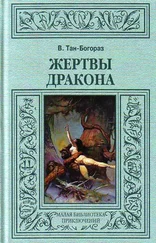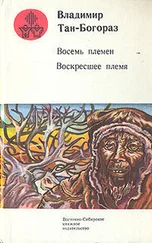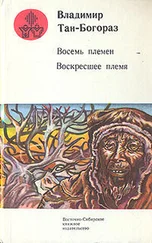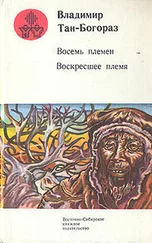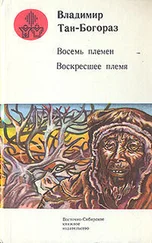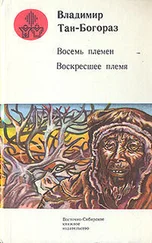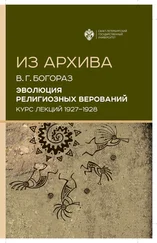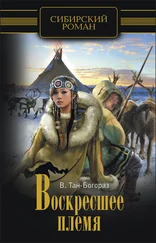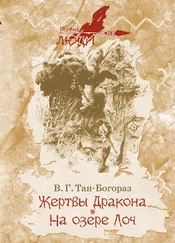Оленные люди охотно выбирали невест между кавралинками, ибо они считались бойчее и неутомимее на всякую работу. С другой стороны, не одна молодая девушка из уединённого стойбища среди анюйских гор, прельщённая удалью и чудесными рассказами одного из вечных "бродяг", покинула свою родную землю, чтобы сделаться полуголодной спутницей "беломорского истребителя моржей" [2] [Чукчи в древних сказках называются "жителями Белого моря", "детьми Беломорской жены". Приморские чукчи, в частности, называются моржеедами, истребителями моржей. (Прим. Тана).]
.
Кавралины, имевшие родственников-оленеводов, обыкновенно приходили прямо к ним на стойбище, всё время получали от них пищу и, возвращаясь на родину, увозили с собой щедрые дары в виде запаса шкур и живых оленей, которые у восточного моря ценятся гораздо дороже, чем в глубине моховых пастбищ. От них они получали поддержку во время столкновений с другими жителями оленной земли.
А таких столкновений было немало. Обитатели пустыни, привыкшие вести совершенно разрозненную жизнь, отличаются неуступчивостью нрава, при каждом общественном собрании сколько-нибудь разнообразных элементов это выражается множеством споров и ссор, которые большею частью тут же забываются, но нередко обостряются, приводят к кровавому столкновению и потом затягиваются на многие годы, замирая на неопределённые промежутки времени, но вспыхивая с новой силой при каждой случайной встрече.
Зато приход торговых гостей послужил естественным поводом для целого ряда общественных увеселений. Чукчи страстно любят всевозможные состязания, требующие физической силы и ловкости, и пользуются каждым удобным случаем для их устройства. Через каждые три или четыре дня на различных стойбищах околотка устраивались гонки на оленях, с бесконечным разнообразием призовых ставок, от куска облезлой волчьей шкуры до дорогого бобра. Эти гонки разнообразились пешим бегом, борьбой, прыганьем через барьер, скачками на лахтаке [3] [Скачки на лахтаке состоят в том, что несколько человек берут за концы широкую лахтачную или моржовую кожу и подбрасывают на ней человека как можно выше. Подбрасываемый должен, падая на шкуру, становиться на ноги. Лахтак — крупная порода тюленя (Phocs barbata). На Белом море называется "морской заяц". (Прим. Тана).]
и т. п. и перемежались жертвоприношениями, куда собирались ближние и дальние шаманы, чтобы состязаться во вдохновении. Чукчи усиленно веселились и старались запастись весельем на целый год, вплоть до будущей весны.
Я переезжал со стойбища на стойбище, отдаваясь интересу этой своеобразной жизни. В одном месте наблюдал, как чукчанки длинными ножами разрезывают труп, чтобы, обнажив сердце, собственными глазами исследовать причину смерти; в другом — слушал хитросплетенные сказания "времён сотворения мира и ещё раньше того", а в третьем — старался укрепить свой дух пред оглушительным треском бубна во время торжественного служения духам. Чукчи успели привыкнуть к моим расспросам и не оказывали мне недоверия. Труднее всего было прокормить две собачьи упряжки, целую прожорливую стаю из двадцати пяти здоровенных псов, для пропитания которой требовалось ежедневное закалывание двух оленей. Мои покупательные средства состояли из нескольких десятков кирпичей чаю и такого же количества пачек листового табаку, а дорожные запасы ограничивались двумя мешками ржаных сухарей и связок сушёной рыбы. Но в глазах чукчей и эти скромные продукты имели несравненную ценность, и они охотно убивали двухгодовалого оленя за половину чайного кирпича с придачей двух листов табаку. Окаменелые сухари казались им лакомством, в обмен за которые они оказывали посильное гостеприимство мне и моим трём спутникам.
Один из эпизодов этого весеннего веселья полярной пустыни я постараюсь описать на нижеследующих страницах.
Стойбище Акомлюки раскинулось на правом берегу реки Росомашьей, по большому ровному полю, которое разливы реки успели отвоевать у линии хребтов и обратить в заливной луг. Везде кругом были горы. Две волнистые гряды невысоких, но довольно обрывистых вершин тянулись вдоль обоих берегов, часто подходя к самой воде и запирая реку в узкие стремнины, спадавшие во время весеннего разлива быстрыми и бурливыми шиверами [4] [Шивер — перекат горной реки с мелким, но быстрым течением. (Прим. Тана).]
. Подальше, в стороне от реки, повсюду поднимались сопки, круглые, правильно обточенные, поросшие по склонам жидким леском, с коническими белыми вершинами, похожие на кучу приземистых сахарных голов, в беспорядке высыпанных из какого-то исполинского мешка. Горы повсюду заслоняли горизонт, оставляя открытым для взора только небольшой промежуток между противоположными склонами. Впрочем, на юге, по направлению речной долины, они несколько расходились и открывали более широкий вид, составлявший как бы брешь в общей круговой кайме и замыкавшийся узкой поперечной полоской, чуть синевшей вдали. То был заречный берег реки Сухого Анюя, принимавшего воды реки Росомашьей почти под прямым углом.
Читать дальше