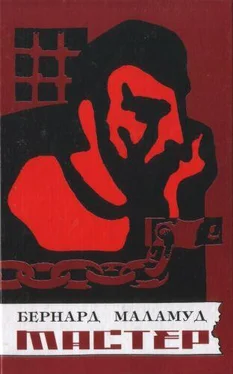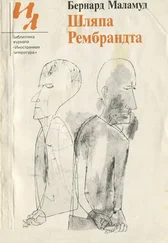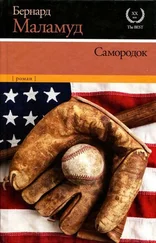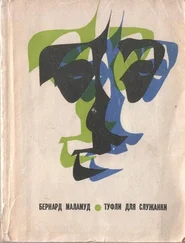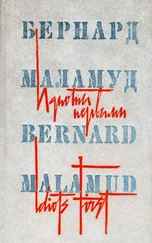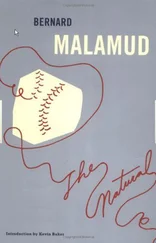— Сволочи! — кричит он.
Он колотится цепями об стену, напрягая на шее жилы. Он рвется, он сам не свой, временами брезжит ему надежда, но это воображение одно; кажется, что вот она, близко, — свобода, она настанет, и надо только поглубже вздохнуть, что-то правильное подумать. Или рухнет стена, или восход прожжет ее так, что в отверстие можно будет протиснуться. Или он наконец-то вспомнит, где запрятал ту книгу, в которой объяснено, как можно спокойно пройти в дверь, запертую на двенадцать засовов.
— Я буду жить! — он кричит в камере. — Я дождусь, я пойду на суд!
Бережинский приоткрывает глазок, вставляет туда пистолет и целится мастеру в пах.
Яков сидит в глубокой яме. Ангельский голос — или это мнится ему? — окликает его по имени, или нет, он не расслышал; он почти совсем оглох на правое ухо, после того как по этому уху его огрел Бережинский. Он не отвечает. Волосы у него длинные и свалялись. Ногти растут, пока не сломаются. У него понос, он пачкается, от него воняет.
Бережинский окатывает его холодной водой из ведра.
— Ясно, почему жид свинины не жрет. Боров тебе кровный брат, тоже всегда в говне.
Он сидит на траве под пушистой березой. Цветами усыпано поле. Он говорит сам с собой, произносит слова, чтобы их все не перезабыть. Кое-что вспомнит — и даже сам удивляется. Что это — память, или это мысли, или надежды? Его окутал желтый густой туман. Иногда сквозь туман вдруг прорежется колкий луч. И мелеют, пересыхают воспоминания. Давние происшествия, которые с таким трудом он выкапывал из памяти. Он ведь уже однажды сошел с ума. Вдруг опять потеряешь рассудок? Тогда — конец. И будешь, уже не помня, не зная, почему и за что, томиться в этом застенке. В пропащей своей судьбе, в последнем своем незнании.
— Умри, — говорит Бережинский. — Умри ты, ради Христа.
Он умирает. Он умирает.
А Кожин рассказывает, что получил письмо: сын у него умер. Бросился в Ангару под Иркутском.
3
— Снимите шапку, — сказал смотритель, стоя у него в камере.
Он снял шапку, и смотритель протянул ему пачку бумаги.
— Вот ваше обвинение, Бок, но это отнюдь не означает, что в скором времени ожидается суд.
Потом, согнувшись в цепях на своем табурете, Яков читал бумаги. Очень медленно он читал, а сердце скакало как бешеное, но ум бежал впереди сердца. Тот еврей, о котором шла речь, совершил ужасное преступление, угодил в ловушку, и он уже виделся узнику — мертвый, зарытый в могиле. Вдруг слова на бумаге мутились, уходили под воду. Когда они снова выныривали на поверхность, он читал их одно за другим и каждое выговаривал вслух. Прочтет три страницы — и нет больше мочи читать. Тяжелые, как бревна, были эти бумаги, и приходилось их класть на пол. Скоро, хотя зарешеченное окно еще пропускало свет, стало темно читать. Ночью он проснулся от жажды — глотать эти слова. Хотел было выпросить свечку у Кожина, потом испугался: вдруг бумаги подхватят от свечки огонь и сгорят. И он стал ждать до утра, и пытался читать во сне, и тут обнаружилось, что обвинение написано по-турецки. Он просыпался, щупал бумаги, убеждался, что они на месте, в кармане пальто. И снова он ждал утра. Едва рассвело, мастер накинулся на документ. И сперва ему показалось, что вся история изменилась по сравнению с тем, что он прочитал вчера, но потом он сообразил, что она изменилось только по сравнению с тем, как он сам ее сложил в голове по вопросам, которые ему ставили, по обвинениям, которые против него выдвигали. Само преступление было то же, хотя прибавились подробности, о каких он и не слыхивал, даже фантастические подробности; да и прежние были изменены, и сильно напущено мистики. Яков читал, нащупывая сопряжение фактов, которое все прояснит; будто бы только найти в них то, чего другие не видят, и сразу он докажет свою невиновность. А докажет — и тотчас же его освободят от цепей и отворят перед ним двери тюрьмы.
В этом «Судебном обвинении», перепечатанном на длинных синюшных страницах, рассказывалась история убийства Жени Голова — примерно так, как уже знал ее Яков, но ран теперь было сорок пять почему-то, «три группы по тринадцать, плюс еще две группы по три». Были раны, сообщалось в бумаге, на груди у мальчика, на горле, на лице и на голове — «возле ушей»; и вскрытие, предпринятое профессором М. Загребом с медицинского факультета Киевского университета, показало, что все эти раны были нанесены мальчику, пока сердце его еще билось. «Раны же в шейную аорту были нанесены тогда, когда сердце совсем ослабело».
Читать дальше