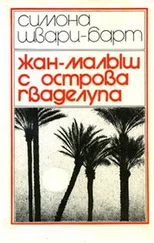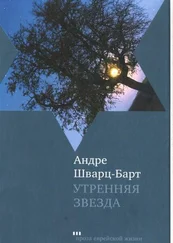Но однажды вечером, выходя из синагоги, он столкнулся с молодым крестьянином, который растерянно стоял в подворотне. Лицо его осунулось от усталости, а в глазах светилось одновременно выражение надменности и ужаса.
— Эй, ты, раввин, сдается мне, что я — один из ваших. Ну, а коли так, растолкуй мне, как стать собакой-евреем!
На следующий день он произнес горестным тоном:
— Свинье место в свинарнике, а еврею — в гетто. Уж кто ты есть, тем тебе и быть. Что, скажешь, не так?
А спустя месяц признался:
— Истинно хочу уважить вас, да не выходит у меня, словно с души воротит.
Постепенно он стал доверчивее: рассказал, как терзают его ярость и стыд, как его взяли в армию, как глубокой ночью отважился он на непоправимо безумный шаг и бежал.
— Проснулся я — слышу, все они храпят по-христиански. Езри, Езри, сказал я себе, не из того ты чрева вышел, что мнится тебе, и кто ты есть, тот ты и есть, стало быть, свинья, коли от себя отрекаешься…
Пораженный этой мыслью, он одолел часового, затем оглушил прохожего, с которого снял одежду, и, как зверь, ринувшийся во тьму, пустился в путь на Вильно, что в двухстах верстах от его гарнизона.
Отовсюду приходили люди, знавшие его отца, Праведника Ионатана Леви. Пораженные грубостью сына, они искали сходства с отцом, вглядывались в его глаза. Говорят, он пять лет потратил на то, чтобы снова стать похожим на рабби Ионатана. Он громко смеялся, обнаружив, что у него еврейские волосы, еврейские глаза, длинный нос с горбинкой, как у еврея. Но люди все еще боялись, как бы в нем опять не проснулся грубый крестьянин. Иногда на него нападали приступы ярости, он говорил о том, что нужно «выбраться из ямы», произносил такие ругательства — хоть уши затыкай. Потом замыкался в себе и целыми неделями сосредоточенно молчал, думал и мучился страданиями. В своем знаменитом «Описании чуда» мудрый раввин Вильно сообщает: «Не понимая смысла какого-нибудь ивритского слова, сын Праведника колотил себя по голове большими крестьянскими руками, словно хотел выбить из нее польскую породу».
Жена раввина заметила, что по ночам пришелец кричит во сне, то поминает библейских пророков, то взывает к какому-то святому Иоанну, покровителю его христианского детства. Однажды посреди моления он рухнул наземь и стал бить себя кулаками по вискам. Безумие его было тотчас же воспринято как проявление святости. По свидетельству виленского раввина, «к тому дню, когда Всевышний, сжалившись над ним, послал ему смерть, Нехемии Леви удалось, наконец, заменить свои католические мозги еврейскими».
Вся жизнь его сына, Якова Леви, — отчаянное бегство от неумолимого «благословения Божьего». Тихое существо с тонкими, длинными руками и ногами, с дряблым лицом и вытянутыми, как у пугливого зайца, ушами, он был одержим желанием остаться в неизвестности. Он даже сгорбился в три погибели, словно хотел скрыть от окружающих свой высокий рост. Как преследуемый человек пытается скрыться в толпе, так и он спрятался в свое ремесло — стал простым шорником, незаметной личностью.
Когда ему рассказывали о его предках, он делал вид, что это недоразумение, доказывал, что, кроме страха, ничего не испытывает. «Я лишь букашка, — сказал он однажды своим нескромным почитателям, — жалкая букашка. Что вы от меня хотите?»
В один прекрасный день он исчез.
К счастью, небо наградило его болтливой женой. Сто раз клялась она молчать, но долго не выдерживала и, наклонясь к уху соседки, таинственно начинала:
— На вид мой муж вроде ничего особенного… Верно?
И признание, сделанное под страшным секретом, разнеслось, как огонь по ниве. Раввин призвал скромного шорника и хотя не предложил ему свою должность, все же объявил его блаженным, окруженным ореолом опасной славы. Во всех городах, где доводилось очутиться супружеской паре, история повторялась. «Дабы не мог он насладиться покоем безвестности, — пишет Меир из Носака, — Бог поместил подле него недремлющего стража — язык его жены».
Кончилось тем, что, доведенный до исступления, Яков расстался с женой и укрылся в одной из улочек киевского гетто, где тихо-мирно занялся своим ремеслом. Вскоре, однако, напали на его след, но из боязни спугнуть начали наблюдать за ним, не уступая ему в скрытности. Соглядатаи заметили, что он распрямился, глаза просветлели, и за семь лет он позволил себе по меньшей мере трижды открыто предаться веселью. Это были, видимо, счастливые годы.
И только его смерть оправдала всеобщие ожидания.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)