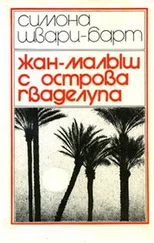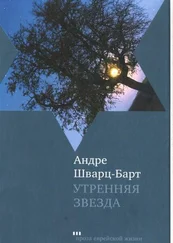А Мордехай всю ночь просидел на стуле. На рассвете в витрину мастерской влетел увесистый булыжник: лавочница направила расистские устремления своего мужа по нужному руслу. Мордехай прибил на скорую руку несколько досок, чтобы воры не забрались, потом, тяжело вздохнув, зажег керосиновую лампу и стал дожидаться утра. «Хоть бы дело не кончилось новым гетто», — втайне думал он, следя за тем, не шелохнулся, когда старик, дрожа с ног до головы, впоследствии витрина так и осталась заколоченной досками. [9] Так в книге — sem14.
Причин к тому было множество, — в частности, деньги, — и каждая из них была достаточна, чтобы не снимать это деревянное заграждение — рубеж для немцев и символ тюрьмы для семейства Леви.
Мордехай выбежал на шум телеги. Лошади уже неслись галопом вдали, но на тротуаре задумчиво стоял блудный сын. Руки набиты морковкой, повязка распустилась до самых ног, в волосах запутались травинки, весь перепачкан землей и кровью… Эрни не шелохнулся, когда старик, дрожа с ног до головы, бросился к нему и стал оглядывать его с таким беспокойством, словно боялся, что ребенок снова исчезнет.
— Не надо ничего говорить, и бояться ничего не надо, — бормотал Мордехай, — ты слышишь меня? С тобой ничего не случилось? Слава Богу! Слава Богу! — горячо твердил он, прижимая мальчонку к своим штанам.
Эрни казался совершенно спокойным.
— А почему витрина заколочена досками? — не скрывая любопытства, спросил он, когда дед отпустил его.
Возле площади Гинденбург показался молочник на своем трехколесном велосипеде. Кроме него, на Ригенштрассе еще никого не было, лишь утренний туман окутывал улицу. Мордехай, присев на корточки, прикоснулся щекой ко лбу ребенка: нет ли жара. Увидев во взгляде внука олимпийское спокойствие, он рассказал ему все, что произошло со вчерашнего дня, соблюдая все же некоторую осторожность.
— Вот видишь, — нежно сказал он, — если бы ты на самом деле был Праведник, ничего подобного не случилось бы…
— Я все понимаю, — сказал Эрни.
— Значит, ты должен стать таким, как раньше. — вкрадчиво сказал дед. — И все делать, как раньше.
Большие темные глаза стали задумчивыми и наполнились слезами.
— Почему ты плачешь?
— Потому что теперь я знаю, что всегда буду причинять неприятности… хоть я и не Праведник!
— Шма Исраэль!
Прижав мальчонку к себе, Мордехай выпрямился во весь рост и подумал: «Боже, непостижимы высоты небесные и глубины земные… Так и детское сердце… непроницаемо».
ГОСПОДИН КРЕМЕР И ДЕВОЧКА ИЛЬЗА
1
Тридцать два года службы на ниве просвещения наложили свой отпечаток на господина Кремера: вся его особа излучала безмятежное созерцательное спокойствие. Его длинная, вытянутая, как флейта, фигура, по которой при малейшем движении проходила волнообразная зыбь, подчиненная ему одному слышной мелодии, была фигурой учителя: прямоугольное лицо, поднимавшееся из крахмального воротничка, как странный цветок из горшка, могло принадлежать только учителю, и никому больше.
Даже улыбка была учительская, градуированная по педагогической шкале: полулыбки, четверть, одна восьмая и так далее. Когда в классе было все спокойно, он имел обыкновение пользоваться осторожной полуулыбкой, расположенной где-то между благодушием и суровым сознанием долга.
С самых первых лет службы его взяли на заметку за прискорбное сочетание природной мягкости с давно забракованными педагогическими теориями. На педагогическом совете достопочтенный директор так ему и сказал:
— Да не наклоняйтесь вы так над учениками — в этом положении человек сам напрашивается, чтобы ему дали пинка под зад.
Покраснев как рак, молодой педагог задумался (правда, всего лишь на полсекунды) и с большим достоинством ответил:
— Должен признаться, что совет господина директора, несмотря на невежливую форму, заслуживает с моей стороны особого внимания.
И все же, хотя отныне господин Кремер выкладывал на видное место свою трость, он продолжал втайне верить в чистоту детской души; как в некий противовес несовершенству взрослых. Конечно же, говорил он своему другу господину Гартунгу, ребенок происходит от человека, спору нет… как, впрочем, и человек происходит от обезьяны!
Он считал, что если дать человечеству образование и познакомить его с поэзией, то можно навсегда преградить дорогу варварству. В этой связи немецкие поэты-романтики, особенно Шиллер, у которого каждая строфа дышит гражданственностью, представлялись ему наилучшей духовной пищей. О, тот день, когда каждый житель земного шара узнает поэзию Шиллера, будет замечательным днем! Люди перестанут заниматься политикой, гоняться за деньгами, интересоваться женщинами легкого поведения… В этот благословенный день восторжествует Детство: взрослые навсегда останутся детьми, а дети изначально будут настоящими мужами… и так далее, и так далее.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)