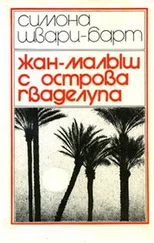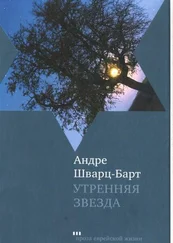Барышня Блюменталь зажала ему рот рукой, но он все с тем же воем вырвался и бросился вперед. Никто не успел опомниться, как ребенок очутился совсем близко от нациста. Голые руки повисли вдоль штанишек. Он был далеко от барышни Блюменталь, но она видела, как дрожат у него ноги, а крик бил ей прямо в уши.
Двое евреев выступили вперед. Вид у них был суровый и отсутствующий.
После молитвы толпа закружила Мордехая, оторвала от своих, оттеснила к угол между загородкой и тем местом, где режут кур, так что он оказался в треугольной тени навеса, которого он касался головой. Любое чувство, переживаемое толпой, покатывалось до него, прижимая к стене, и он тщетно пытался сдержать этот натиск, блуждая взглядом над шляпами, ермолками и шиньонами в надежде отыскать своих. Но только голова медузы — косматая голова Юдифи мелькала среди людских волн, то приближаясь, то отдаляясь. Мордехай был готов ко всему. Древний голос в нем взывал к искупительной жертве, всегда, вечно и особенно после Земиоцка и особенно теперь, в этом году, с тех пор, как христианское варварство вонзило свои когти в немецкое еврейство. Но к тому, что происходило сейчас на его глазах, не был готов даже он. Эти женщины, эти дети, пусть умирая от страха, но все же по собственной воле пришли сюда на поругание и стоят перед нацистами. Нет, этого он не хотел. Более того, он был против. Понадобилось единодушное безумие всех верующих Штилленштадта, чтобы он согласился, по их примеру, пустить своих в синагогу. «Какая таинственная сила двигала ими?» — спрашивал он себя и не верил своим глазам, когда при появлении нацистов лица вокруг него исполнились особого достоинства. Даже у самых крикливых кумушек! Даже у самых маленьких детей! Словно и они почувствовали трагическое величие этой минуты… Что же не дает угаснуть тому древнему и суровому огню, который снова зажег души тихих штилленштадтских евреев, вот уже сто лет расслабленных покоем этой рейнской провинции? Почему перед лицом преследований они вдруг почувствовали смысл своего еврейства? Они давно забыли о былых пытках, давно стали беззащитными перед страданиями, но неожиданный поворот событий застал их во всеоружии…
Рассуждая сам с собой таким образом, Мордехай смотрел, как раскрываются окна соседнего дома, и чувствовал, что надежда уменьшает напор толпы. «Боже, а что будет в тот день, когда немецкие окна больше не раскроются при виде еврейских страданий?» — спрашивал он себя. Он бесстрастно отметил, что нацисты свирепеют, так же бесстрастно констатировал, что окна одно за другим закрываются и что евреи поднимают руки к небу, словно внезапно почувствовав свое полное бессилие.
Но когда безумная старуха бросилась на «нейтральную полосу», отделявшую толпу евреев от нацистов. Мордехай начал прокладывать себе дорогу. У его плеч мелькали мокрые от слез женские щеки, склоненные мужские головы, обезумевшие глаза детей, теперь разразившихся плачем.
— Боже праведный, хоть бы безумие мадам Тушинской не обернулось против детей! — раздавался вокруг него шепот.
Крик Эрни он услышал, когда был уже на расстоянии нескольких голов от пустого горячего пространства, разделявшего два мира.
Ребенок меж тем уже стоял перед страшным коричневорубашечником, такой маленький, что, казалось, будто он смиренно припадает к его ногам, такой тщедушный, что грозная тень, лежащая на сверкающих плитах, накрыла его целиком.
И тут, когда Мордехай разглядел фигурку внука на тонких дрожащих ножках и черные колечки его кудрей, едва прикрытые нелепым немецким беретом, когда услыхал его крик, похожий на блеяние ягненка, у старика сжалось сердце, и он увидел с беспощадной ясностью: «Вот он, наш жертвенный агнец, наш искупитель». Слезы застлали ему глаза.
Дальше все происходило уже далеко, в фантастическом мире легенды, и яркое солнце, выхватившее из тьмы веков подробности этой сцены, только придавало ей живые краски. Сначала захохотал главарь, показывая пальцем на ребенка. Потом захохотали его молодчики.
— Посмотрите на этого защитника евреев! — кричали они, хлопая друг друга по плечу.
Добела раскаленное небо уносило их смех в бесконечность. Мордехай понял, что накатившаяся на них волна веселья защитит, прикроет ребенка. Кажется, и мальчик это понял: он вдруг качнулся, поднял валявшийся у его ног парик и надел его на голову госпожи Тушинской. Она жадно схватила парик, снова обняла колени руками и свернулась клубком. Траурное платье, болтавшееся на ее длинном худом теле, придавало ей сходство с мертвой вороной. Но когда ребенок распрямился, нацист перестал смеяться и сильным ударом ладони отшвырнул его назад, на госпожу Тушинскую. У нее задралось платье, обнажая бледные морщинистые бедра. Нацист заморгал глазами и с досадой отступил. Его молодчики двинулись за ним. Толпа облегченно вздохнула: на сегодня — довольно.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)