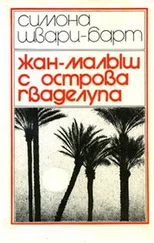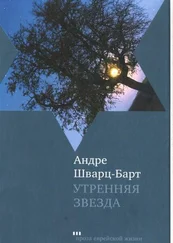Но Голда начала на себя смотреть другими глазами. Не то чтобы в ней появилась горечь, но во всем теперь чувствовался легкий налет отчужденности: в ее по-прежнему улыбчивом лице, в беззаботных манерах, в жизнелюбивом характере; все теперь было проникнуто неуловимой сдержанностью, в результате чего ее утраченная миловидность превратилась в красоту.
Иногда, правда, на нее нападала жадность: то она объедалась фруктами до резей в животе, то упивалась меланхолическими звуками гармоники, которая под ее руками издавала бессознательные любовные призывы. В любую мелочь она вкладывала всю душу: сморщенное яблоко грызла с таким усилием, словно это была сама земля, которая крошилась у нее под зубами, прозрачную воду пила долго и, видимо, не от жажды, а в каком-то задумчивом исступлении. Мать приходила в ужас от этих странностей. Голда же успокаивалась после каждого такого «приступа», не испытывая ни сожаления, ни горечи, словно утоляла свои желания у самых пьянящих источников жизни.
— Несерьезная ты какая-то, — говорила ей мать, — будешь так себя вести — никогда не выйдешь замуж.
— А если буду вести себя иначе, думаешь… Кому я нужна с такой ногой? — смеялась Голда.
Мать, женщина угловатая не только на вид, но и по характеру (вероятно, жизнь ее такой сделала), грубо возражала:
— Чтоб я сдохла, если я что-нибудь понимаю в этой девчонке! Да будь ты уродиной из уродин, жабой из жаб, все равно если ты захочешь, то найдешь человека, который тебя прокормит! Зачем, ты думаешь, я тебя растила? Чтобы ты так и зачахла? Посмотри на меня! Нашла же я твоего отца!
Если при этом присутствовал господин Энгельбаум, он воздевал руки.
— Ты меня нашла, я тебя нашел, мы оба нашли друг друга… Упаси тебя Бог, доченька, от таких находок, — печально говорил он в бороду. — Иди лучше сюда, детка, скажи мне, какого мужа ты хочешь.
Эти разговоры ничуть не задевали Голду, она принимала в них участие только из почтения к родителям.
— Вот ты и есть мой муж, правда, — говорила она отцу и, глядя на мать со снисходительной усмешкой, добавляла: — А ты — моя жена, моя чудная жена. Чего же мне еще хотеть!
Мадам Энгельбаум приходила в ярость от этих слов, а Голда их часто повторяла, словно хотела подчеркнуть свою отрешенность от женского начала и убедить родителей, что, «выйдя замуж» за них обоих, она вдвойне с ними счастлива. Голда не рисовала себе будущего, думая больше о том, как найти удовлетворение (в каком-то смысле более полное, богатое и невыразимое) в настоящем и в пределах ее мира. Эти «приступы», как она говорила, голода, жажды, желаний распространялись только на доступные ей вещи. Когда в буфете бывало пусто, она прекрасно утоляла «приступ» голода сухим хлебом. Позднее, когда они с Эрни сошлись поближе, он иногда спрашивал, чего бы она хотела.
— Назови что-нибудь совсем недоступное, чего я не могу тебе дать…
Сначала она отвечала ему поцелуями, а узнав его странный характер, просила что-нибудь такое, что ей представлялось почти недоступным: что-нибудь из парфюмерии или из фруктов, или больше сахару, чем полагалось по норме.
Эрни приходил в отчаяние от такого отсутствия воображения, он усматривал в этом серую забитость бедняков. А иногда ему виделась в этом благоразумная расчетливость, вызванная страданиями. Так объяснял он, почему Голда безропотно принимает несчастия ближних и свои собственные. Не вдаваясь в размышления, он называл ее «Простушкой», но однажды после долгого разговора на эту тему, когда она утверждала, что нужно покоряться воле Бога, а он с ней не соглашался, Эрни задумчиво сказал:
— Все дело в том, что я даже не начал еще постигать, в чем суть страданий, а ты все знаешь лучше самого раввина.
Она растерянно на него посмотрела. В другой раз, когда на улице Паве он попросил ее назвать «желание», она вдруг «пожелала» пройтись вдвоем по Парижу без звезд. Они гуляли весь день. Это и было ее единственным «несбыточным желанием».
Они предприняли эту прогулку в одно из августовских воскресений. На всей их поношенной верхней одежде с левой стороны были нашиты звезды. Поэтому Голда предложила просто выйти без курток. Погода стояла такая чудесная, какой больше уже никогда не будет в жизни этих двоих детей. Эрни с Голдой дошли до берега Сены и под темным сводом моста сняли с себя куртки со звездами. Голда засунула их в хозяйственную сумку и поспешно прикрыла бумагой. Потом, взявшись за руки, они пошли вдоль Сены до Нового моста. Там они поднялись по каменным ступенькам наверх и, испытывая такую тревогу, что дух захватывало, вышли в христианский мир.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)