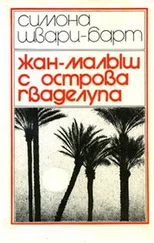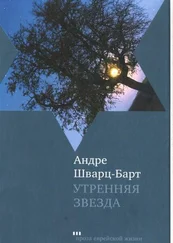— А лук? — спросил какой-то ребенок.
— Лук тоже, — ответил маленький раввин.
— А редиска с маслом? — спросил другой ребенок.
— И редиска с маслом. Но главное, заметьте, что после Него, благословенно Его имя, самое совершенное создание — человек! Человек, ягнята мои, человек…
— Рабби, а как же я? — выкрикнул маленький горбун.
Раввин быстро думал.
— Послушай, птенчик мой, сердце мое, — пробормотал он с едва уловимым упреком в голосе. — вот что: для горбуна ты самый совершенный горбун! Понимаешь?
… Для горбуна — ты самый совершенный горбун…
Сладостно-горькое утешение этой философии вдруг опротивело Эрни. Да, мир тащит на себе фантастически-огромный болезненный горб, но шутить над этим неприлично. О самом себе Эрни знал твердо: Всевышний, благословенно имя Его отныне и вовек, снабдил его прозрачной и холодной оболочкой, которая, покрыв его тело и душу, отражает все: и белую больничную палату, и яркие пожары погромов, и нежно-голубое небо парижского предместья, и эту тихую зарю, попахивающую кровью, и прозрачный воздух, исколотый крохотными юнкерсами…
Несколькими часами позже его память запечатлела ослепительный конец второго ивритоязычного солдата, которому пуля попала в то место, где, согласно книге Зохар, находится третий глаз, или центральный глаз внутреннего зрения. Последнее определение, очевидно, точнее, судя по тому, что, попадая между обычных глаз, пуля гасит всякое сознание, и «благородное, как солнце, и чистое, как снег, и наивное, как детство». Память запечатлела также похороны второго ивритоязычного солдата. Его опускали в могилу, чудом вырытую снарядом. Согласно обряду, на нем были филактерии и черно-белый талес, словно надетый для молитвы о Всепрощении. А еще запечатлела память не менее блистательное исчезновение с лица земли 429 пехотного полка: чисто кельтское поспешное отступление, частично на боевых конях Провидения, частично на вышеупомянутом велосипеде; захоронение человеческого обрубка на краю дороги Шалон-сюр-Сион; последние почести, возданные ребенку, лежащему вниз лицом под косым, как свет на итальянских картинах, шквалом, несущимся с неба; офицера в желтых перчатках, удирающего на велосипеде, который сказал ему по-братски: «Друг мой, положение безнадежное, но не серьезное»; объявление о капитуляции французской армии; знакомство с вечно голубым небом Ривьеры; объявление о том, что Франция отдает половину самой себя победителю и таким путем начинает обучаться искусству распада, и, наконец, объявление о том, что всех интернированных в лагере Гюр Франция выдает нацистам и сама обеспечивает средства транспортировки в лагеря уничтожения.
Хоть и укрытый своей оболочкой, Эрни счел, что последний пункт переполнил чашу, и тогда ему во второй раз пришла в голову счастливая мысль повеситься. Поспешим добавить, что он свой замысел не осуществил. «И почему он решил повеситься? И если уже решил, то почему не повесился?» Действительно любопытные вопросы. Однако поскольку мы ограничены местом, уточним лишь, что впоследствии Эрни не мог простить себе того, что не повесился.
5
Во время приступа головокружения Эрни обратил к своим умершим близким такие слова:
— Отец, мать, сестры и братья, дедушка, Муттер Юдифь! Зачем, потеряв вас, я остался в живых, почему не погиб вместе с вами? Если потому, что такова была воля Всевышнего, Бога нашего, то я проклинаю имя Его и плюю Ему в лицо. А если во всем следует видеть силы природы, как меня учили в 429 полку, то я прошу у нее милости: пусть немедленно превратит меня в тварь. Ибо, любимые мои, Эрни без Леви — все равно что растение без света. Вот почему, с вашего разрешения, я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы стать собакой. И еще прошу вас, дорогие родители, считать это обращение к вам моим последним прощанием.
Заметим мимоходом, что, как бы назло Эрни, бесподобное средиземноморское солнце осенью обладает способностью придавать жизни особую ценность.
«Ну-ка, брат, поглядим, как нам стать собакой в этих краях», — сказал себе вскоре Эрни Леви и начал приспосабливаться к новой форме существования, согласно той логике, которая не преминет предстать перед читателем.
Из новаторских экспериментов Тарда стало известно, что подражание есть по крайней мере вторая натура, если не вся ее суть. В свете этих идей, если считать доказанным, что все разнообразие способов воспринимать жизнь, обрывать лепестки розы или разделывать цыпленка определяется границами биологической среды, нетрудно понять, что при желании утратить человеческий облик Эрни следовало лишь всей душой усвоить собачье поведение, распространенное в данной среде.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)